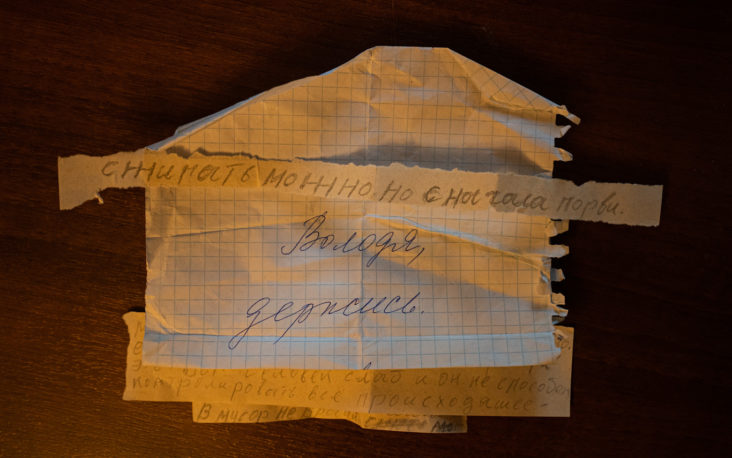Как твоя работа изменилась с 24 февраля прошлого года?
Когда мне задают этот вопрос, — а мне его очень часто последнее время задают, — кажется, что в ответ хотят услышать, что с 24 февраля в нашей правоохранительной и судебной системе что-то радикально поменялось. Но в ней ничего принципиально не изменилось. В нашей жизни — да, поменялось примерно все: в нашем будущем, в наших планах на него, во всем, чем мы живем, чем мы дышим, что мы все чувствуем. Потому что началась ужасная война. Но наша система подошла к 24 февраля уже в том виде, в котором она есть.
Все справедливо возмущались, как на пустом месте задержали [Владимира] Кара-Мурзу, цитировали рапорт, что он «поменял траекторию движения» к собственному подъезду, а ведь это все было и раньше, например, за два года до этого в деле Люси Штейн было примерно такое же откровенно безумное объяснение ее задержания. А еще раньше возникла позиция судов: «У нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции», — что бы они ни писали в бредоподобном рапорте. Все это возникло не сегодня и даже не вчера.
Да, появились новые уголовные статьи. Но репрессивные составы [преступлений] появляются уже давно и регулярно. И дела о «военной цензуре» — не качественное изменение, хотя конечно воспринимается как очередное пробитое дно. «Есть только одна правда, и она льется из уст представителей власти, все остальное — ложь и экстремизм», — эта установка существовала и до того, как «заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил» стали считать любую информацию, противоречащую брифингам Лаврова и Конашенкова.
Человека уже давно при большом желании можно задержать вообще абсолютно безосновательно. Достаточно рапорта любого силовика, который скажет, что этот человек на него нападал, хамил, был нетрезв и матерился. И у судов всегда «нет оснований не доверять» таким рапортам.
Все очень давно очень плохо. Полная невозможность, если система хочет тебя закатать, как-то этому противодействовать, существует гораздо дольше чем идет война. И в этом смысле, если бы до 24 февраля у нас была какая-то другая правоохранительная и судебная система, может быть, и не случилось бы 24 февраля.
Хочется тебе возразить: есть ощущение, что раньше фигуры типа того же Кара-Мурзы, Яшина были неприкосновенны в какой-то степени. Помнишь, была презумпция, что Навального не посадят? Вот случайных ребят, которые на митинге потянули омоновца за ремень от шлема — их пожалуйста. А Яшина — нет.
Я не считаю, что были и есть какие-то неприкосновенные фигуры в среде независимых политиков и общественных деятелей. Уж Кара-Мурза точно не может считаться неприкосновенным — с двумя попытками отравления. А так про каждого человека, который находится на свободе — да хоть бы и про меня — можно так сказать: «Маш, а ты вообще почему до сих пор свободно гуляешь и интервью даешь? Почему тебя до сих пор не лишили статуса? Почему тебя до сих пор не посадили?»
Мне всегда казался странным этот дискурс: ты на свободе — значит, какой-то особенный. Почему? Может, просто руки не дошли.
Задающие такие вопросы, возможно хотят найти какую-то стройную логическую схему, поняв которую, они могут предсказать, за кем и когда придут. А значит, подготовиться самим. Но нет никакой логики и системы, нельзя просчитать такое поведение, при котором ты гарантированно не подвергнешься репрессиям. Ты можешь их избежать, но это будет так же непредсказуемо, как если ты под них попадешь.
24 февраля случилось потому, что мы соглашались жить в системе, в которой такой вопрос был возможен? «Почему Яшин до сих пор не сидит, может быть, с ним что то не так? Почему Навальный до сих пор не сидит, может быть, с ним что то не так?»
Я думаю, что 24 февраля случилось по совокупности обстоятельств. Прежде всего, это следствие убийства всех институтов гражданского общества и разгрома всех независимых политических и гражданских сил. 24 февраля случилось, потому что в России задолго до него исчез независимый суд, призванный решать все возникающие в обществе споры, в том числе споры между гражданами и избранными ими властями. Власть тоже давно никто не выбирает — хотя мероприятия, названные выборами, проходят регулярно. В то же время, из-за отсутствия независимого суда негде оспорить фальсификации и недопуск к выборам. Это все началось задолго до 24 февраля.
Именно поэтому мне не близок подход «виноваты все россияне, потому что они выбрали эту власть». Нет, эту власть россияне не выбирали, и это легко доказывается математически.
Говорить, что все россияне виноваты — это не дискурс XXI века. Мне совершенно не близки обобщения по признакам, не связанным с осознанным выбором человека. А гражданство — безусловно, такой признак: гражданство почти никто не выбирает. Редкая возможность поменять гражданство, которая существует для ограниченной категории людей, только доказывает общее правило: подавляющее большинство людей рождается в том гражданстве, в котором они и заканчивают жизнь. Дискриминировать их на этом основании недопустимо.
Как сейчас, по твоим ощущениям, количественно и качественно изменились репрессии?
Репрессий стало значимо больше. Люди, которые до этого о них не говорили, стали говорить. Я не проводила никаких исследований на этот счет, но это мое ощущение, то что вижу своими глазами. Мне рассказывают подзащитные, что если еще несколько лет назад они в автозаке по пути в суд говорили: «Я политический», все спрашивали: «Чё?». А сейчас говоришь: «Я политический». Тебе отвечают: «Двести семь точка три? Фейки или дискредитация?» А то еще и услышишь от соседа «О! И я!»
По крайней мере, общая осведомленность о репрессиях точно повысилась. Люди, которые раньше при разговоре о политических делах просто кривились и смотрели на тебя как на демшизу, сейчас этого точно не делают — они гораздо больше знают об этом и сами опасаются.

Ты общаешься в силу своей работы с представителями этой системы. Может, и дружеские связи даже есть…
Есть и такие. Мне часто говорят: «Как ты можешь с ними так мило общаться? В них же нет ничего человеческого!» Во-первых, зачем добавлять взаимную агрессию, которая будет дополнительно отравлять и без того сложную ситуацию и ничем не поможет? А во-вторых, мне интересно, что они думают и чувствуют.
И, конечно, они люди. Я не считаю, что участие в репрессиях хоть каким-то образом может быть обосновано. Но даже порицая их и утверждая, что они участвуют в неправосудном и злом деле, даже желая им наказания, нельзя не видеть в них людей. Они могут быть плохими людьми, а могут заблуждаться, могут быть недостаточно смелыми, чтобы пойти наперекор. Расчеловечивание недопустимо в любом случае.
И какое среди них отношение к происходящему? Особенно на фоне вала дел против политиков, дел о «фейках»?
Есть те, кто кажутся идейными — по крайней мере, судя по их поведению и тому, что они говорят. Они считают, что государство все делает правильно, что врага надо карать, что ради безопасности и стабильности государства вполне допустимо нарушать права людей. Время такое, вызовы такие, вот это все. Среди тех, с кем я общаюсь, таких меньшинство. Большинство или все понимает, или догадывается, чувствует, что что-то не так. И, не видя в себе сил противостоять или уйти, предпочитают не задумываться. Ну или как-то еще рационализируют это. Например, ведя дела о военной цензуре, многие из силовиков, как мне кажется, испытывают некоторую неловкость.
Стыд?
Я очень аккуратно пытаюсь говорить о чувствах других людей, особенно если они мне об этих чувствах не говорили. Не знаю, могу ли я за них сказать, что им стыдно. Но многие разговаривают на эти темы, чувствуют, что происходит что-то не то.
Я знаю людей, ушедших из системы после участия в делах, которые мы называем политическими. Я знаю людей, которые ушли из системы после 24 февраля. Большинство уходит тихо — вы не найдете в интернете упоминания о громких увольнениях по собственному желанию из-за несогласия с политикой руководства ведомства.
Это хорошо, что тихо?
Это их выбор, я не готова советовать. Я просто констатирую, что они уходят. Знаю одного представителя силового ведомства, который ушел буквально через несколько дней после 24 февраля — и на следующий день после увольнения вышел на антивоенный протест. Его избили и задержали, и я ездила к нему в отделение полиции.
Но большинство остается. Прекрасно понимаю, какие претензии к ним могут возникнуть. Подавляющее большинство следователей, с которыми я работала по политическим делам, говорили мне что-то типа: «Вот, дали мне это дурацкое политическое дело, ненавижу политику». Они это воспринимают как отвратительную обязанность — навесили какую-то уборку, дежурство по классу, ты это ненавидишь, но сделать надо. Зато в остальные дни можно делать правильные, нужные вещи. Ты же профессионал! Выезжаешь на трупы, банды обезвреживаешь, ловишь воришек, ищешь закладчиков. В остальные дни ты молодец.
Но удовольствия и радости от ведения «политических» дел у большинства из тех, с кем я общаюсь, нет никакой. Они хотят побыстрее эту неприятную процедуру пройти и вернуться уже к своим настоящим делам. А мысли, что можно возразить начальству, нет в этой среде. Я иногда задаю вопрос: «А отказаться?» На меня смотрят огромными глазами: как можно отказаться, если начальство тебе поручило?
Мне иногда друзья говорят: «Маш, тебя не посадят, тебя следаки любят». Я говорю: «И что? От них что зависит? Начальство скажет — они сделают. Будут приходить ко мне в СИЗО, продолжать быть со мной милыми и любить меня на допросах».
Можно же саботировать — хотя бы не просить ареста. Почему они этого не делают? Исходят из того, что их уволят и будет некому банды обезвреживать?
Это надо у них спрашивать. Только спрашивать, наверное, не сейчас, а когда они будут готовы об этом говорить и рассказывать.
Почему они что-то делают или не делают — вопрос разных наук. Просто сейчас не время для анализа. Но это время придет и появится спрос на понимание — почему кто-то поддерживал войну? Почему кто-то голосовал за использование войск за рубежом? И почему кто-то подписывал обвинительные заключения, понимая, что человек, который просто писал посты, получит пять лет?
Если я буду жива, может быть, внесу свой вклад в прояснение этого. Расскажу, что видела, какие вела разговоры, расскажу об ощущениях, которые у меня были от этих людей. Может, эти люди сами поучаствуют и тоже расскажут, как оно все было. Напишут какие-нибудь мемуары.
Насчет того, чтобы не просить ареста — мера пресечения очень часто, и по «политическим делам» в особенности, согласовывается с руководством. Руководство дает установку: «Этого под стражу». И это не обсуждается.
А ты знаешь случаи тихого саботажа хотя бы в мелочах?
Тихого — знаю. Например, в деле Константина Котова (активиста, получившего четыре года колонии по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах; впоследствии срок снизили до полутора лет - прим. «Черты») был акт осмотра видеозаписи — стандартный документ, в котором следователь смотрит видеозапись и описывает, что на ней происходит. Это была запись, на которой Котов вышел из перехода на «Китай-городе» и в течение 38 секунд прошел какое-то количество метров вглубь сквера у памятника героям Плевны, после чего к нему побежали полицейские и схватили его. И эта видеозапись, то ли снятая какими-то стримером, то ли попавшая в СМИ или Youtube-канал, была приобщена к делу.
Следователь написал в акте: на такой-то секунде человек просто идет, никого не трогает, ничего плохого не делает, ничего не нарушает, смотрит в землю. На такой-то секунде к нему кидаются полицейские, его задерживают. Этот акт был в деле, мы на него ссылались как на доказательство невиновности Котова: вот же, его схватили безо всяких оснований. Не уверена, что это можно назвать саботажем, — это добросовестно выполненная работа. Но из этого описания так наглядно следовало, что Котов ничего плохого не делал, а был без причины задержан, что мне показалось, будто это было сделано намеренно, с определенными чувствами. Кстати, этот следователь ушел сразу после дела Котова. Хотя он любил свою работу.

А буквально на днях еще один следователь по делу Котова написал мне, что уволился. Сказал, что хочет пойти в адвокаты. Само по себе это ни о чем не говорит, но я хочу верить, что он будет честным адвокатом, и специфический опыт участия в откровенно политическом деле повлияет на него правильно.
Можно изменить систему изнутри? Вот я молодой следак с горящими глазами, пошел туда, потому что вырос на сериалах про ментов или серийных убийц. Я могу как-то помешать происходящему?
Можешь уйти. Некоторые уходят. Некоторые, впервые столкнувшись с такого рода делами, уходили сразу.
Это же ничего не изменит. Только мою совесть очистит, наверное.
Не изменит. Сегодня в очередной раз одного из следователей спросила: «А что, если бы вы отказались привлекать к ответственности заведомо для вас невиновного?» Он ответил: «Выгнали бы сразу». Многие так отвечают, и, возможно, правы. Мы не знаем, что бы было, если бы какой-нибудь прокурор встал в суде и отказался от обвинения, потому что был бы искренне убежден в необоснованности этого обвинения. Мы не знаем, что бывает за это прокурорам, потому что не видим таких «отказников» в современной России.
Как в системе относятся к резонансу вокруг дел? Их как-то впечатляет ажиотаж, они берут его в расчет? Мне приходит в голову дело «Нового величия»…
В дело «Нового величия» я вошла на стадии суда, про следователя ничего сказать тебе не могу.
Ну, а судьи?
Судья был мил и любезен. Потом дал шесть лет человеку, который ничего криминального не сделал. И которого сначала развели на досудебку, а потом обманули. Впечатляет ли их медийность дел? Думаю, что многие, хотя и не все, читают прессу и следят за тем, что пишут про их дело и про них самих. Но мне никто не жаловался: «Маша, какой ужас! Про меня написали, что я палач, душитель свобод. А я же просто сделал свою работу» или что-то в этом духе. С другой стороны, всегда можно сказать: «Это ангажированное СМИ, это все вранье».
Есть ощущение, что сейчас в суд уже не придет столько людей, сколько ходило на «Новое величие».
Множество активистов и людей, которые интересовались политическими процессами, уехали. И все равно люди приходят на суды. У нас было заседание по Диме Иванову (автор Telegram-канала «Протестный МГУ», студент, приговоренный к 8,5 годам колонии за «фейки об армии» — прим. «Черты»), так приставам пришлось открыть двери, потому что зал не вмещал людей, и поставить скамейки в коридоре в несколько рядов.
А тебе не кажется, что это тоже пример тихого саботажа? Они вообще-то никогда так не делают.
Даже в моей практике они первый раз так сделали. Приставам, кстати, говорили много слов благодарности. Я надеюсь, они почувствовали, что сделали что-то хорошее. К следующему заседанию организовали трансляцию в соседнем зале.
Сколько у тебя подзащитных приговорили за последние полгода?
Яшина, Диму Иванова.
Вот-вот приговорят Кара-Мурзу.
Ну, пока не приговорили.
Как ты это переживаешь?
Не могу сказать, что легко. Но поскольку у меня в последнее время не возникает сомнений, какой будет результат по такого рода делам, то я просто ставлю перед собой другие задачи. В каждом случае это что-то свое. Главная задача — сделать так, чтобы твое нахождение рядом с этим человеком максимально улучшало его положение, облегчало жизнь, помогало поддерживать связь с внешним миром.
Например, у меня сейчас есть подзащитная, девочка из Украины, обвиняемая по «террористической» статье. Ее били, пытали током, потом держали в подвале — ждали, пока следы сойдут. Потом отправили в Москву, попутно сказав, что ее родные от нее отреклись. Еще до того как я вошла в дело как адвокат, я связалась с ее родными, которые, конечно, от нее не отреклись и активно ее искали. Узнала размеры ее одежды, обуви, белья. И подумала: «Что бы я хотела получить, если бы сидела одна в тюрьме в другой стране после месяца в подвале?». И я пошла покупать ей прокладки, расческу, крем, лифчики, трусы, кофе, чай, сладости, майки, кофточку просторную, тапочки. Как для себя выбирала. Отправила ей посылку.
А увиделись мы с ней позже. Я вошла в дело как ее защитник, и ее привели ко мне на встречу в следственный кабинет — в той самой кофте, которую я прислала. И она призналась: «Когда я получила эту посылку, я расплакалась. Потому что поняла, что кто-то знает, где я. Что кто-то обо мне думает. И эти вещи — это было ровно то, что мне надо». В тот момент я собой гордилась.
Есть ощущение, что сейчас защищать права репрессируемых, политических заключенных, как будто бесполезно. Ничего не изменить. Если так, то зачем это нужно? Для потомков, для очистки совести?
А зачем чистить зубы каждый день? Зачем, проходя мимо застрявшего в трубе кота, пытаться его вытащить?
Коэффициент полезного действия вытаскивания кота выше, чем КПД вытаскивания политического заключенного из СИЗО. Ну, ты же слышала наверняка реплики в свой адрес, мол, зачем ты этим занимаешься? Ты же ничего не добьешься.
Смотря что мы ставим целью.
А что?
Помочь человеку.
Но он же все равно получит срок.
Хорошо, давай спросим у тех, кто работает в хосписе, в паллиативе, зачем они этим занимаются? Эти люди обречены, они все равно умрут, зачем тратить время? Мне кажется, что хосписное движение, которое, слава богу, очень сильно развилось и достигло выдающихся высот, уже ответило на твой вопрос в рекламных слоганах: «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». В каждом случае все равно ты можешь как-то улучшить жизнь человеку, смягчить ужас, в котором он оказался.
Ну и другой момент: помнишь была история про мужика, который каждый день чистил взлетно-посадочную полосу, которую никто не использовал? А потом прилетел самолет и аварийно на ней приземлился. Это, по-моему, тоже ответ на твой вопрос.
800 раз не получится, на 801-й получится?
Смотри: когда ты начинаешь участвовать в уголовном «политическом» деле, у тебя нет серьезной задачи добиться оправдания. Да, и тут бывают прекращения преследования — например, несколько человек отпустили по «московскому делу». Но это редкий случай. И ты на него все же серьезно не рассчитываешь, потому что ты вменяемый здоровый человек и понимаешь, с чем имеешь дело.
У меня тоже, к примеру, было прекращение дела о «дискредитации ВС» в отношении Кости Янкаускаса, когда он перепостил молитву Папы Римского о Мариуполе. Но, хотя судья пришла к выводу об отсутствии состава правонарушения, я нисколько не считаю, что такой результат связан исключительно с моим участием в этом деле и работой по нему. Я ничуть не меньше и не хуже участвую в других подобных делах, которые заканчиваются не так хорошо для подзащитных.
В большинстве случаев ты не можешь помочь прекратить дело. Ты просто ставишь себе другие, более реалистичные цели. И достигаешь их.
А тогда в чем заключается помощь? Получить срок поменьше, внушить веру в существование добрых людей?
Представляешь, ты единственный человек, который вообще к ходит к заключенному и общается с ним без стекла и телефонной трубки. Это ты — единственная его связь с внешним миром. Он сидит там круглые сутки… Вот сейчас Дима Иванов сидит в камере на четверых, где шесть человек. Это еще хорошо, что там туалет отгороженный. Ты к нему приходишь, приносишь новости, обсуждаешь какие-то дела, передаешь привет от его друзей, ты просто с ним болтаешь о всякой ерунде. А потом ты собираешься уходить и он спрашивает: «Когда ты ко мне опять?» Он не спрашивает: «Когда меня выпустят на свободу?» Но он спрашивает: «Ты когда ко мне в следующий раз?» Значит, ему важно, чтобы я приходила. Но вообще, мне хотелось бы, чтобы этот вопрос был задан тем, к кому мы ходим — насколько это для них важно, что мы с ними вместе это все проходим. Как-то немного неудобно за них отвечать.
Я думаю, что очень.
Ну, значит, вот ответ на твой вопрос. Я часто слышу: «Когда ты придешь еще раз?» Значит, одного того, что ты к ним приходишь, уже достаточно, чтобы хоть как-то скрасить их повседневную жизнь.
Вот у меня, например, есть подзащитный — Валерий Голубкин, 70-летний профессор, доктор наук, обвиняемый в госизмене. Это секретное дело, поэтому, к сожалению, я не могу о нем рассказывать, но просто поверь: никакой гостайны он не передавал, там все комиссии дали заключение, что эти сведения могут быть открыто опубликованы. Он очень лояльный государству человек, такой советской закалки, настоящий патриот страны и отечественной науки.
И вот его обвинили в госизмене, и ему грозит от 12 до 20 лет. И нет никаких сомнений, что ему как избрали стражу, так и будут продлевать — по этой статье все находятся под стражей, дело ведет ФСБ. Никакого судебного контроля над законностью меры пресечения по факту нет, и у него просто каждые два месяца бессмысленный на первый взгляд суд по продлению стражи. А потом каждый раз мы пишем апелляционную жалобу на это продление.
Но это только на первый взгляд кажется, что суд бессмысленный, и что обжаловать стражу бессмысленно.
Потому что на этот суд приходят его родственники. Дело закрытое, но на оглашение их пускают. Они могут его видеть целых 15 минут. А если судья добрый, то их запустят сразу, как только суд удалится в совещательную комнату для вынесения постановления — и это уже будет минут 30 или 40. Они смогут сидеть и смотреть на него, махать ему рукой — потому что, как правило, конвой скажет, что разговаривать нельзя. Если очень добрый конвой, то он может пропустить мимо ушей, когда они спросят: «Как твое здоровье, дорогой?», — а он ответит: «Все хорошо, я очень рад вас видеть».
И мы всегда обжалуем продление стражи. Обязательно. Не потому, что я надеюсь, что суд как-то воспримет доводы жалобы. А потому что на рассмотрение жалобы его тоже привезут. Чуть ли не единственное преимущество этих секретных дел — в том, что видеосвязи не бывает: вдруг страшная тайна просочится через эту видеосвязь. Поэтому человека привозят. А значит, родственники могут приехать на обжалование.
И моя задача каждый раз в процессе сказать: «А тут еще, кстати, сидят в коридоре родственники, и я прошу суд, когда он удалится в совещательную комнату… Понятно, что дело закрытое, но поскольку будет оглашаться только вводная и резолютивная часть, то прошу допустить на оглашение родственников». Я это прямо проговариваю для протокола. И пока, слава богу, судьи в подавляющем большинстве случаев говорят: «Ну ладно». И мы бежим за родственниками, говорим им: «Вы можете зайти». Они заходят и смотрят на него целых 30 минут. Это очень важно для них.
*Фото на обложке: Александра Астахова