Как Светлана впервые столкнулась с этой проблемой
В ранней молодости я долго работала массажистом и работала с парализованными пациентами. Я видела пролежни, но считала, что это разовые проблемы. Тогда хосписов не было, но было так называемое отделение дожития, где оказывали паллиативную помощь. Я работала в таком отделении в 1993 году. Сейчас я часто бываю в хосписах в разных регионах и могу сказать, что то отделение было не самое плохое. Все как сейчас, только без клоунов и мандаринов. Поскольку больница, где я работала в 93-ем, была в далеком Подмосковье, массажист там был нужен примерно как козе баян, и я сидела совсем без работы первые три месяца. От скуки я пошла посмотреть, что это за отделение такое, что за «корпус дожития». Я туда пришла, и была в шоке, что там лежат 20 человек, которые не выходят на улицу, у которых не проветривается помещение. Меня тогда в юности цепанули какие-то внешние вещи, которые, может, и не так важны, хотя тоже имеют значение. Я стала проветривать там 30 раз за день, открывать-закрывать форточки, приносить бабусям одуванчики — как раз только начиналась весна, мать-и-мачеху в стаканчик ставила, начала вести всякую волонтерскую деятельность. И там был пациент, которому тогда было сорок два года, после инсульта, который категорически не хотел меня видеть.

У него был полный паралич, но одна рука немножко двигалась. Не сгибалась в локте, не работали пальцы, но он мог ее отвести на всю длину в сторону, зацепить кружку и сбить ее со стола, когда он был недоволен. Когда он оказался в отделении, с ним развелась жена и, самое страшное, сказала детям, что он умер. Я как молодой, совершенно бестолковый и не имеющий никакого опыта волонтер без опыта работы с такими пациентами, сказала: «Сейчас все будет!» Я верила в мануалку, только отучилась и считала, что массажист может творить чудеса: один раз по спине погладим и сразу новая спина отрастет. Я начала к нему ходить и уговаривать: давай поделаем массаж. А он совсем не шел на контакт. Был настолько глубоко в себе, агрессивно-озлобленный, он посылал меня матом. Дурости молодецкой было много и я ему сказала: я сейчас пойду к главному врачу, он сделает назначение и я буду к тебе ходить.
Я была готова причинять добро со всем своим дурацким энтузиазмом, на который тогда была только способна. Я ходила к нему в конце каждого рабочего дня и полтора часа массировала. Он бил об меня посуду, кидал в меня кружки, кричал матом. В конце концов он выдохся и сказал: «Оставь меня в покое, пожалуйста. Я хочу умереть. Я очень хочу освободиться от этого всего, я устал. Ты понимаешь, что ночью, когда выключают свет, со всей больницы сползаются тараканы и едят меня?» Я спросила: «В смысле — едят?» Он ответил: «Подними одеяло». И я поднимаю одеяло, и вижу сгнившие ноги. Он говорит: «Знаешь, как больно, когда тараканы тебя едят? Это очень больно. И знаешь, как противно, когда ты не человек, а еда для тараканов?» В итоге я ему сказала: «Разве я могу тебе сделать хуже? Хуже уже некуда».
— Задуши меня подушкой, — предложил он.
— Я сяду тогда, — ответила я, — Давай так: я буду приходить, работать, по крайней мере, ты будешь полтора часа развлекаться.
И он согласился. Мы обрабатывали с ним раны, сушили их, я все время спрашивала маму-ветеринара, что делать, потому что гнойного хирурга я тогда еще ни разу не видела, пока там работала, даже не слышала, что такие бывают. Его, скорее всего, и нельзя было вызвать. И я просто шла к главврачу, спрашивала разрешения, он отвечал: «Ну давай, делай, хорошо, я не знаю». Я шла к маме потом, она была ветеринарным врачом на селе, а это покруче многих опытных врачей. Там приходится с разным сталкиваться: и у животных, и у людей. Она может лечить всех: от пчелы до человека. Даже рыб. К ней постоянно приезжали специалисты, которые занимались фармацептикой, серьезными клиническими исследованиями, мама доводила их до ума на телятах. Мы с ней залечили тому парню раны и он встал. Живет полноценно, сейчас он уже на пенсии и воспитывает внуков.
Прошло несколько лет и я случайно встретила его в автобусе. Стоит мужик, улыбается во весь рот. И говорит: «Свет, ну ты что!» И тут я понимаю, что это Иван. Меня так накрыло! Я же с ним проработала год, добилась того, что он сел в коляску и ездил по территории больницы, с Иваном мы расстались на том, что дальше он все сможет сам. И он смог. Весь автобус на нас так странно смотрел: мы плакали, обнимались, целовались, это было что-то. У меня было такое ощущение, что я нашла своего ребенка, который почему-то на 20 лет старше меня.
Почему пролежни — невидимая проблема российской медицины
Все фонды, которые помогают тяжелым пациентам после онкологии или после травм, все так или иначе сталкиваются с пролежнями, их невозможно обойти. Это явление встречается буквально через одного пациента. При этом именно почти никто не занимается конкретно пролежнями и их лечением.
Пациент получает пролежень как правило сразу в реанимации, но его еще невозможно увидеть глазами, это только покраснения на коже. Специалист, который с этим сталкивается каждый день, вам сразу скажет: там пролежень. Но такие специалисты работают в отделениях гнойной хирургии, в, допустим, сердечно-сосудистых отделениях, в нейрохирургии их нет.

Далее человек с пролежнем перепадает на статистику отделения, в которое его переводят. А в отделении, как правило, нет ни инструментов, ни способов, ни специалистов бороться с пролежнями. Если в больнице и есть гнойный хирург, то он и без того завален работой. И таких пациентов стараются выписать домой как можно скорее — из-за «правила последней руки», по которому ответственность за смерть пациента ложится на последнего врача, имевшего с ним дело.
В результате эти пациенты пролетают мимо статистики, им дают очень далекие от реальности описания в выписке, потому что врач, который не специализируется в вопросе, не может толком описать эту проблему. По итогу такие случаи, где в выписке не указана проблема с гноем, отражаются в статистике умерших дома. В официальную статистику по гною эти смерти не попадают, изменения не идут, тревогу никто не бьет, потому что в другую больницу человека с пролежнями тоже не возьмут (опять-таки из-за правила последней руки), ни на какую операцию не берут, за исключением случаев, когда пациента при смерти привозят в больницу по скорой помощи. Но в целом — никакой реабилитации, никакого санаторно-курортного лечения, ничего.
Почему Метелица занимается помощью людям со спино-мозговыми травмами, отягощенными гнойными ранами сепсисом
Однажды мы увидели пропасть между детьми-инвалидами и здоровыми детьми во дворе, где у нас был офис. Мы наблюдали в окошко, как молодой человек на коляске, лет 14-ти, катается около подъезда, наблюдая за ребятами, которые гоняют мяч на площадке и физически не может к ним подойти. И мы вдруг подумали: сам он подъехать не может, ему нужна помощь. Родителей он стесняется попросить, ну что это: «Подкатите меня, я познакомлюсь с ребятами»? Это странно, ему уже 14. А ребята… очень часто люди здоровые не знают, не понимают, не чувствуют, как себя повести. Но это все — страх, не пренебрежение, не брезгливость, страх: я смотрю на тебя, ты и так сидишь в коляске, я не понимаю, как ее правильно подкатить, как ее правильно развернуть. В общем, в другой раз мы сами подошли к этому парню. Поговорили, подкатили парня к площадке. И вся эта компания закрутилась вокруг Метелицы. Вот эти подростки дворовые и этот мальчишка. Я им сказала — а помогите мне снарягу разобрать, я вас чаем напою. И они мне помогли. Раз, два, и вся эта компания начала тусоваться у нас. Потихоньку мы начали с ними ходить в походы, к нам присоединялись подростки с ДЦП. Тогда этим ребятам было уже лет по 15. Потом они закончили школу уже все. Но за эти два года они стали друзьями, и я знаю, что они по сей день общаются. Иногда, когда я встречаю кого-то из этих ребят в том районе, такие уже здоровые дяди, усатые-бородатые, они с криками «тетя Света!» кидаются мне на шею. Это очень смешно, они уже на голову выше меня все, переженились… и мы продолжили общаться, а потом ребята стали нам рассказывать страшные истории: «Лежал с мальчиком в больнице, а он умер от пролежня. Как же так?!» Нас это сначала удивляло, шокировало.
Одним из первых с пролежнями к нам приехал мальчик из Липецкой области, он весил 32 килограмма в семнадцать лет. И он умирал. Нам стоило очень большого труда положить его в больницу и прооперировать. У него было две операции, одна — после остановки сердца. Главный врач больницы, в которую в конце концов дозвонилась его мама, выслушал ситуацию и сказал ей прямым текстом: «Кто все это наделал, тот пускай и исправляет, я чужое дерьмо подчищать не буду». «Чужое дерьмо» — это семнадцатилетний мальчишка, который сейчас умирает. Я была в таком бешенстве из-за этого, это было как паническая атака: ты видишь цель и не видишь препятствий, как берсерк.
Тут работает то же правило последней руки. Если пролежень образовался в реанимации, то по голове за него все равно получат врачи отделения, куда пациента потом переведут. Потому что «расцветет» пролежень уже в отделении. Правило последней руки — отвратительно. Оно никого не защищает и прежде всего страшно для пациента. Потому что врач боится, что все повесят на него.
Я настолько была зла, что пообещала маме мальчика, что вот именно этот хирург, который сказал про чужое дерьмо, и будет оперировать ее сына. Она возражала: нет, не будет… В итоге он его и оперировал.
Мы привезли мальчика в Москву и поехали в травмпункт. Так совпало, что этот хирург как раз тогда дежурил. И он сказал: «Нет». А я сказала ему: «Вы можете вынести его на улицу и положить на тротуар. И мы будем стоять у входа в вашу больницу, он будет лежать на тротуаре и здесь умирать. Сюда приедет вся пресса. Я обзвоню всех. Сейчас все обратят внимание на человека на улице, люди уже все пошли на работу, на улице толпа. Я буду сидеть у вас под дверью до тех пор, пока…» И он понял, что мы никуда его не увезем. И он спросил: «Вы понимаете, что привезли мне труп?». Я ответила — «А вы понимаете, что вы отдадите мне живого, залеченного человека?» Он ответил: «Я вас понял». И все закончилось очень хорошо, несмотря на тяжесть состояния, несмотря на жуткую потерю мышечной массы, в том числе мышц сердца.
После этой ситуации мы глубоко погрузились в эту тему. И мы поняли, что никто и нигде не понимает ничего в гное.
Как «Метелица» начала активно заниматься проблемой пролежней
История с пролежнями и с гноем у нас идет с 2014 года. Мы приезжали к подопечным и старались найти врача и больницу, куда можно человека положить. Но постепенно поток шел и появилась Лена Шерышова, которой нужно было срочно ампутировать ногу. В самом центре голени ее кость была сломана ровно пополам, был свищ прямо в середине берцовой кости, ниже щиколотки, туда невозможно было залезть.
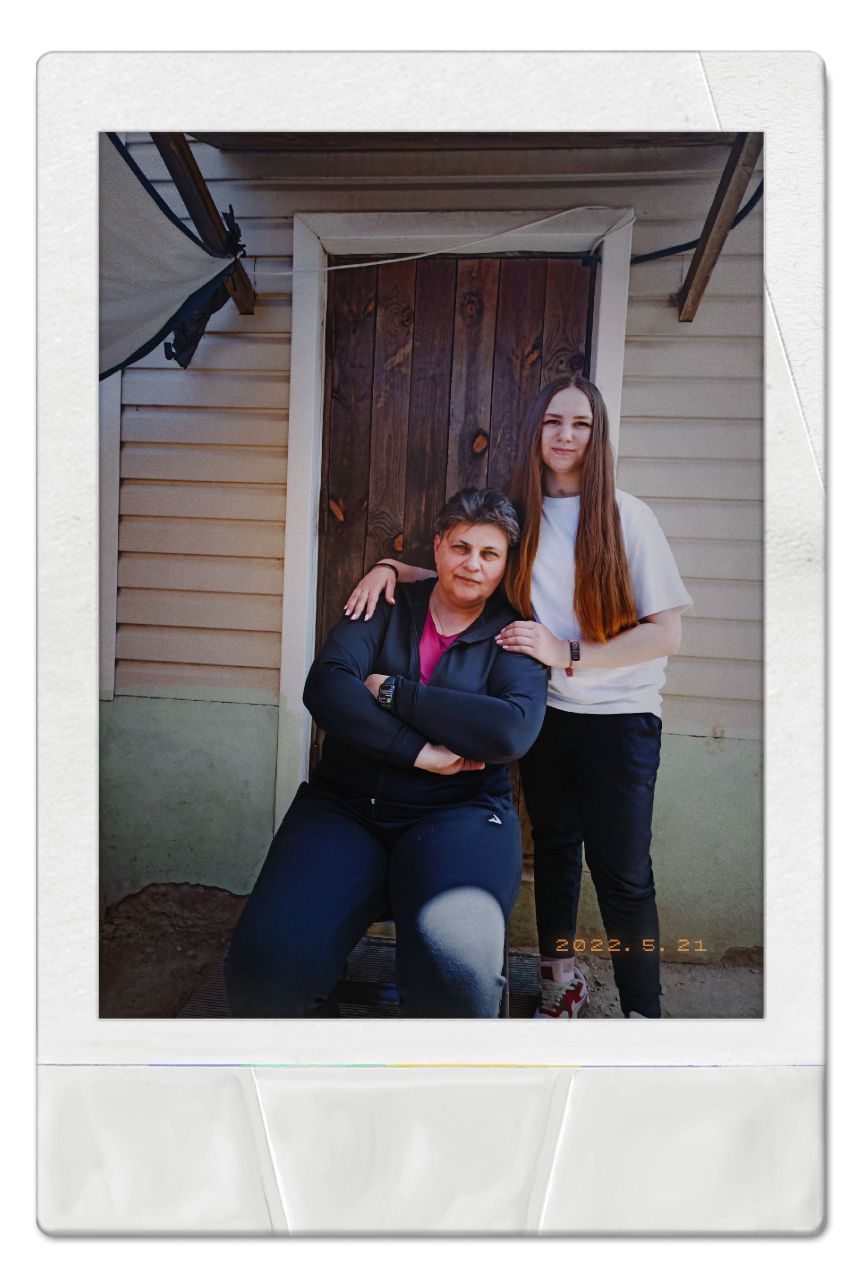
Когда мы списывались с Леной, у нас перед глазами была одна картина. Но когда я увидела ее ногу вживую, все поменялось. Мне сказали: там некроз, нужно делать ампутацию, а я увидала — да, глубокую степень, но ишемии (ограничение кровоснабжения тканей, мышц или органов тела, вызывающего нехватку метаболизма, необходимого для клеточного метаболизма, — «Черта») . Это то, что можно спасать. Мы оставили планы ехать в ЦИТО (Медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова, — «Черта»), развернулись и поехали в другую сторону. Она сказала тогда, что устала сидеть, «можно я лягу и подниму ногу, потому что у меня нога отекла?»
И я поняла, что нужно срочно ехать к гнойному хирургу. Потому что уже был опыт и понимание, что у нее под щиколоткой дырка, из которой она пальцами выдавливает гной. Мы рванули делать все платно и быстро. Гной может течь долго-долго, а потом застрелить тебя в один момент. Мы приехали к Анне Васильевне (Анна Васильевна Табуйка, врач-хирург, благодаря которой были спасены от ампутации ноги Лены Шерышовой, — «Черта»), платно, и она сказала, что да, это ишемия и есть за что бороться. Что может дать нам три месяца, но не больше, чтобы мы нашли специалиста, который не ампутирует ногу, а спасет. Я у Лены спросила: «Тебе ноги нужны?» Она сказала: «Нужны!» Так мы и договорились, что мы будем бодаться [за то, чтобы спасти ногу]. Но это было… вот когда ты уже думаешь, что на дне, а тебе снизу стучат. Мы с Леной уже четыре года, и каждый день стучат снизу.
Что нужно сделать, чтобы в стране научились работать с гноем?
Я боюсь выражения «реформа здравоохранения», потому что непонятно, куда и что реформировать. Все новое в итоге оказывается хорошо забытым старым. Во-первых, нам нужен ухаживающий персонал. Это дорого, сложно, но он нужен. Нужны те, кого называют сиделками. И это должен быть человек с медицинским образованием. Это должно быть как отдельная профессия — специалист по уходу. Человек, который должен очень много знать, уметь, очень хорошо принимать решения. Не о том, как лечить, а о том, что пора звать врача. Бегом. Сейчас. Я все бросаю и зову врача. Что-то меняется в ране, в состоянии пациента, в тканях вокруг раны — я должен сразу вызвать врача.

Что касается правила последней руки — это устоявшаяся история, здесь должен меняться подход к сбору статистики, должны начать отслеживаться последствия медицинских вмешательств. А в этом смысле нужно вести очень серьезную просветительскую работу. По сути любое медицинское вмешательство имеет ятрогенные (неудачные последствия в отношении здоровья пациента, вызванные действиями врачей, — «Черта») последствия. Другое дело, это те последствия, которые нужно принять, и без них — никак. Допустим, рентген имеет последствие в виде облучения. Любая операция — шрам и процесс восстановления. Но это допустимо, потому что без этого никак. Но есть последствия, которые допускаются по халатности, неграмотности, отсутствию медикаментов, ухаживающего персонала.
При этом нужно снизить тон обвинительной риторики в адрес врачей. У нас бывают такие ситуации, когда мне хочется взять и написать в соцсетях, что Иванов Иван Иванович — гад последний, не ходите к нему лечиться. И пойти в прокуратуру. И подписаться под этим кровью. Но я не могу этого сделать. Сейчас уровень доверия к медицине настолько упал, что любое мое негативное высказывание может у кого-то в голове повернуть ручку крана, перевести стрелку, «я вообще больше никуда не пойду». И вот это из серии «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Я практически не позволяю себе интервью, не говорю о медицине, все всё знают, понимают, видят. Мы вдруг решили, что медицина — это услуга, некий сервис, — но это не так. В моем понимании священник, военный, врач, педагог — это служение, это не про деньги, а про то, что ты переворачиваешь всю свою жизнь. Ты в какой-то степени перестаешь принадлежать себе. И если ты не готов идти на эту жертву — выбирай другую профессию.


