Два года (2011–2012) мы с Димой прожили в одной квартире. Перед этим он пять лет прожил в деревне, в шелтере, где работал с выпускниками коррекционного интерната. Но в конце концов заебался от деревенской жизни, захотел в большой мир и приехал в Москву. В нашей коммуне на Удальцова как раз освободилась комната, и он ее снял.
Вместе с ним приехал Миша, подросток-переросток из интерната, которого Дима взял под опеку. В нашей хате жила куча народу, взрослых и детей, и всегда тусили гости. У нас была здоровенная кухня, на которой всегда велись кухонные разговоры. Когда они становились интересными, я включал диктофон и клал на стол. В результате у меня остались разрозненные Димины рассказы. Они как-то отражают его рефлексию того момента — когда он еще не снял своих лучших работ и не сел на систему. В этих рассказах много стремного, но все мы знаем Димину честность, и мне кажется, что-то тут рихтовать - против его духа.
Когда Дима умер, и все стали постить его снимки, вдруг, с сокрушительной ясностью стало очевидно, насколько это было огромное явление, какой удивительный, мощный взгляд на жизнь, и какая удивительная жизнь. И как сложно было ее жить.

Качели
Насколько я понимаю, когда мы там жили, Дима не кололся. Иногда его сносило в алкотрип, иногда он жрал трамал. Но было понятно, что Дима чел нестабильный, у него были резкие перепады настроения. Из драйва и интереса к жизни он мог за день провалиться в мрачняк и ненависть к себе. Часто он придумывал блестящую идею, очень загорался, а когда я спрашивал на следующий день, с омерзением махал рукой: «Да это глупость, ну нахуй»… Он легко разочаровывался в собственных душевных движениях и вообще во всем, погружался в тоску, кончавшуюся срывом.
Мне кажется, он жил на какой-то грани куража и отчаяния. Просто жить для него было мучительно, нужно было что-то сделать, убежать из себя во внешний мир, увидеть крутую карточку, серию, проект — на это время он мог забыться. Но чтобы удержаться на этом лезвии, в творческом состоянии, нужно было пить. Это дарило поток, но сильнее расшатывало психику. А главное, творчество давало убежать от себя только на какое-то время. В конце концов он сдавался и начинал торчать. От Димы я впервые услышал это слово «сняться» — вмазаться и сбросить тяжесть существования.
- Понимаешь, трагедия в чем? Раньше я ничего не мог сфотографировать даже после бутылки пива. Выпиваешь пива — и словно с закрытыми глазами снимаешь. Даже если накануне выпил, ничего не получалось — и меня это долгое время сдерживало. А сейчас я так охуенно снимаю пьяный, без ложной скромности. И все, это пиздец.
Сегодня была стрессовая ситуация, мне надо было хорошо отработать мероприятие, сделать веселую съемку. А мероприятие такого рода я по-трезвому отработать не могу. Есть такой стиль съемки, когда ты на широком угле прямо тыкаешься в лицо людям — которые пьяные, веселые. И мне это дискомфортно: ты проникаешь в личное пространство человека. А когда я пьяный, то спокойно это делаю, очень агрессивно себя веду, лезу на рожон — и выходят картинки красивые. Вот я там выпил — и у меня такой, блядь, фонтан идей, я пока ехал, уже десять статей придумал. Я не могу расслабляться по-человечески.


Я же курил страшно, я еще торговал этим долгое время. И весь мой мир — он прямо рассыпался. Я дуну — и он рассыпался, и сразу интересно все становится, и я готов как-то по-новому на это все смотреть. А сейчас мне так хочется иметь целостное сознание и восприятие мира. Я его пытаюсь как-то стяжать, а потом напиваюсь или наркотики тем более — и все это рушится, все от настроения начинает зависеть.
А что я буду собой представлять в трезвом состоянии — вот что меня волнует. Я три недели не пил — нихуя ничего не сделал! Меня не посетило ни одной мысли вообще. Мне надо понять: я занимаюсь творчеством и веду дальше этот образ жизни — либо я иду другим путем. Но тогда надо правда перестраивать жизнь, а творчество исключать. Если от меня ждут чего-то творческого, я должен сам себя в эти стрессовые состояния погружать. Я не боюсь, что сторчусь: когда совсем кайф, я тоже не могу писать, ни фотографировать. У меня даже кайф имеет смысл только, что я перехожу с одной стороны на другую.
В идеале, конечно, не пить. Я столько раз пытался установить график. Но душа требует не по графику. Хотя в последнее время, когда пью, у меня никакого удовольствия вообще нету. Все заканчивается такой тоской пьяной. Ой бля, мне жить не хочется!
Семья
Пару раз я специально Диму о чем-то расспрашивал. Оказалось, что у нас похожее детство. Я вырос на станции Рабочий Поселок, он в Пушкине, в очень депрессивные времена. Только я успел проскочить за пару лет до того, как в эти районы пришел герыч.
— Обычная рабоче-крестьянская семья. Я родился в Пушкине, подмосковный город такой. Отец — слесарь-сантехник по вентиляции. Мать всю дорогу работала на фабрике, лет шестнадцать, шила мешки для картошки. Это какая-то адская работа, не представляю, как можно не сойти с ума. Потом фабрика развалилась в 90-е, она торговала хот-догами на Ярославском вокзале, потом у нее случился религиозный инсайт, и она вся ушла в бога, и она сейчас работает в церкви, продает крестики. А причина ее этого ухода - в том, что она живет с отцом, который пьет. Она очень сильно от этого страдает, но продолжает с ним жить. И религия выполняет функцию отдушины и психотерапии.
Я с ними жил, что было очень тяжело, сложно, блядь. У меня тогда была мысль, что детство — самая тяжелая пора. Я совершенно уверен, что все, что было со мной после, несмотря ни на какие сложности, — несравнимо легче. Я ощущал свою беспомощность, не имея возможности повлиять на реальность, в которой находился.
Мать родилась в Тамбовской области. У нее тоже было какое-то очень сложное детство, она уехала из дома в шестнадцать. Ее отец, мой дед, жил с бабкой, потом они разошлись, и он попытался забрать мою мать с собой. И он ее практически выкрал. И только лишь потому, что она закатила скандал на вокзале, когда они собирались куда-то в Казахстан, он вернул ее обратно. И в тот же вечер порезал бабку – как-то очень странно: он ей часть носа отрезал, грудь отрезал — и повесился прямо там, на дереве, возле дома.

Потом бабка вышла за другого чувака — и он оказался пьяницей страшным. А у матери был ещё брат от первого. И там тоже трэш был, муж пару раз его чуть не убил, в него топор метал, и его в итоге в интернат отдали. Мать всю дорогу наблюдала пьянство, они иногда уходили прятаться к соседям. А в шестнадцать она уехала, даже не закончив школу. Подруга ехала на эту фабрику работать, и взяла ее с собой. Она шила мешки, и в какой-то момент познакомилась с отцом, на свадьбе что ли.
— Что она за человек?
— По натуре, конечно, человек она хороший — добрый, любящий, внимательный. Но талантов как-то нормально жить у нее нет. Используя наши термины — «социально слабый человек».
— А отец что за человек?
— Отец вообще неразговорчивый: когда трезвый, он молчит. А общается, только когда пьяный. Я толком не знаю, как он там рос, что представляла их семья.
— А какого он года?
— …
— Не знаешь, какого года отец?
— Ну они с матерью примерно одного года. Че ты на меня смотришь так? Он тоже не скажет, сколько мне лет. У нас никогда не было принято отмечать дни рожденья. Не принято говорить о каких-то личных чувствах. Ни бабушка, ни дедушка до сих пор не знают, чем я занимаюсь. Они знают, что я работаю — и все, их это устраивает. Они даже не хотят, не поддерживают разговор, если я начинаю говорить об этом.
 У отца в семье была достаточно властная мать, моя бабушка то есть. Она там прессовала всех очень сильно. Он мне пару раз рассказывал, что в детстве очень боялся получать двойку, и когда он эти двойки все-таки получал и шел домой с пониманием, что получит пиздюлей, то со злости отрывал штакетины с забора. И мне кажется, что где-то в основе его пьянства лежит эта материнская деспотичность. Уход от реальности. Бабка работала на той же фабрике, с теми же мешками. Я пришел как-то — а она достала у себя из-под матраса мешок. Артефакт такой тридцати или сорока лет. Взяла его на память о своей работе.
У отца в семье была достаточно властная мать, моя бабушка то есть. Она там прессовала всех очень сильно. Он мне пару раз рассказывал, что в детстве очень боялся получать двойку, и когда он эти двойки все-таки получал и шел домой с пониманием, что получит пиздюлей, то со злости отрывал штакетины с забора. И мне кажется, что где-то в основе его пьянства лежит эта материнская деспотичность. Уход от реальности. Бабка работала на той же фабрике, с теми же мешками. Я пришел как-то — а она достала у себя из-под матраса мешок. Артефакт такой тридцати или сорока лет. Взяла его на память о своей работе.
Отец человек взрывной, импульсивный, это говорит о каком-то эмоциональном ресурсе внутри. Но по-трезвому он никогда со мной не разговаривал, даже какие-то попытки воспитания проводил только по пьяни. Не то, что нажрался, и его понесло что-то городить — он пытался, говорил какие-то нормальные вещи. Он скорее всего думал по-трезвому, но говорить об этом — у него такого механизма нету.
По пьяни он пытается говорить и с матерью, но это заканчивается плохо, потому что мать не приемлет этих его разговоров. А он начинал злиться, что она с ним не общается. Цеплялся к каким-то бытовым вещам: рубашки не так поглажены, жрать не то приготовлено. Мать постоянно обижалась, причем она умеет перестать разговаривать. А отцу это было вообще невыносимо. Он приходил пьяный, пытался с ней заговорить, а она еще больше молчала — и все по кругу. У него, понимаешь, с детства непонимание со стороны женщин, от бабки. А у матери основа — это фигура деспота. Она ей не нравится, но она основная. И вот они живут в этом.
— А они когда-то друг друга радовали?
— Не помню. Поначалу, когда я еще маленький был, мы куда-то в фотоателье ходили, на какую-то выставку собак — и каждый раз это сопровождалось боем и криками. И все, больше не могу вспомнить.

— А у них была мечта какая-нибудь?
— Да господи, нет конечно! Я помню, всю дорогу будто два чужих человека живут на одной территории. Мне постоянно мать жаловалась на отца, какой он хуевый, а отец жаловался на мать. Я понимал, что я единственный человек, с кем они разговаривают. Ну как разговаривают — отец иногда начинал по пьяни какие-то жалобы — что вот, заебала, тра-ля-ля. С матерью мы в детстве разговаривали, это были ее монологи, причитания на кухне про невыносимого отца. Рассказывала, как ей тяжело, как она плачет — она еще плакала постоянно.
— Мать была тебе все-таки близким человеком?
— Да, мать я, конечно, считал близким человеком. Но в какой-то момент я понял, что она сосредоточена на собственных переживаниях. То есть все разговоры ее сводились к тому, как ей тяжело с отцом.
У меня была мысль, что если я вдруг умру — то они помирятся. Эта детская мысль очень долго жила в моей голове. Мне казалось, что это как-то их сблизит, и они перестанут ругаться. Просто один меня пытался на свою сторону перетащить, а другой — на другую. И в какой-то степени матери удавалось, потому что она общалась со мной по трезвому и как-то близко, а отец по пьяни и в основном рычанием. Лет в 14, я подошел к отцу и попросил их развестись. Потом отец передал через мать, что он охуел от этого. Они всегда были против развода, для них это было недопустимо. У матери главное в жизни было — сохранить семью. Она постоянно приводила в пример других каких-то женщин из нашего поселка, которые развелись. Развод ей казался чем-то самым ужасным, что опорочит ее.

Сейчас я уже понимаю, что эта семейная жизнь для каждого была непроста по-своему, и какое-то отчаяние было в этом. Отец постоянно на работе пропадал, шел к друзьям, там они напивались, домой приходил пьяный, вообще пьяный, валился спать сразу. Если был не вообще пьяный, то садился, еще пил один и постоянно отрубался на кухне, прям на столе. Я тут один раз проснулся ночью — и у меня всплыло, блядь, во всех подробностях, я вспомнил, как отец приходил, вплоть до мелочей. Приходил, дверь с ноги открывал… Мать меня будила, чтобы мы его затащили в комнату. Она пыталась его как-то за руки, я за ноги: «Дима, придержи дорожку», — затаскивали, клали, она ботинки с него снимала, раздевала его. В принципе, там все взрослые бухали, но мне казалось, что мой бухает так… Я очень сильно этого стеснялся. Я не приводил никого домой, хотя у меня как-то и друзей не было — может, это взаимосвязано.
Отец, когда я приезжаю, если трезвый, просто не выходит. А если пьяный: «О-о-о, Димка-а, прыве-ет». Я в прошлый раз приехал, сразу захожу к нему, спрашиваю: «У тебя водка есть?» Иду в магазин, покупаю — никакого там пива — прямо бутылку водки, прихожу: «Мы вот здесь сядем на кухне». Наливаю, выпиваю, три рюмки подряд — и тогда все это становится как-то более-менее приемлемо.
Детство
А дед работал сторожем и плотником на лодочной станции. Меня всегда на лето отправляли туда. Я всегда там в полном одиночестве проводил, и меня в принципе это устраивало. Ходил там, о чем-то думал. Я не особо был контактным в детстве, у меня друзей почти не было. Все мои позитивные переживания — они были связаны с занятиями, которые я сам с собой в одиночестве делал. Мне очень нравилось уезжать к деду на эту станцию. Я там днями ходил по этим — представляешь себе Пироговское или Клязминское водохранилище? Стоит эта станция и на несколько километров туда и туда один лес. И я просто по нему гулял, грибы собирал. Чем замечательно детство — что не испытываешь скуки никогда. Ходить по улице — все равно казалось чем-то интересным, насыщенным. Целое лето мастерил воздушных змеев, которые, сука, не летали. Постоянно рыбу ловил. По этим берегам лазил, мастерил кораблики — сам с собой.
— А что собой представляла ваша квартира?
— Это был дом барачного типа, которые строили работники фабрики. Двухэтажные хрущобы. Общага рядом была, где мать жила, когда приехала на фабрику. Низкое небо: наш двор и низкие облака. Помню, старшие ребята украли где-то магнитофон и ходили с ним по району. И я, в числе других малолеток, таскался за ними, чтобы как-то приобщиться. Это было еще до школы. Мы ходили-ходили, пришли на центральную площадь — и вдруг кто-то крикнул: «Менты!» Все куда-то побежали, а мне в руки кто-то сунул магнитофон: «На». И я стою с этим магнитофоном и не знаю, что делать.


Мы с другом тусовались, 3–4 класс. Рядом с его домом была химчистка, сзади помойка — и вот мы там постоянно лазили по деревьям, заборам и оттуда дразнили девок, которые жили у него в доме. Девки были уже большие, лет по 18, и к ним постоянно приезжали пацаны на машинах. Кто-то нам сказал, что надо их назвать блядями и будет смешно. Мы их донимали долгое время, а они нам: «Малолетки, идите на хуй!» И один раз я как-то зашелся в этом, и одна из них за мной побежала. Я совершил непоправимую ошибку, по глупости забежал в подъезд. Ну естественно, меня там поймали, причем они все втроем. И они стоят, меня все держат, такие: «Ну че будем делать?» И почему-то ничего их воображение не придумало кроме, как меня раздеть. А потом было совсем невероятное, потому что двое ушли, а одна со мной осталась. Она как раз предлагала: «Давайте разденем, посмотрим на его пипиську». И я помню, что она взяла мою голову и воткнула себе в сиськи. По росту я тогда так и подходил.
А второй подобный опыт у меня был с какой-то пьяной женщиной из общежития. Я помню, что какая-то тетка меня привела домой, и у нее была игровая приставка. Она дала мне поиграть, и при этом она меня трогала как-то, а я увлеченно играл. Я подумал, что это такая адекватная цена за удовольствие.

А еще помню, как я тусовался с этими старшими ребятами, и у них было что-то типа шашлыков. И одна девочка мне что-то дала съесть. Блядь, это было лучшее, что со мной случалось! Я почувствовал какое-то фантастическое с ними единение и счастье. Это было летом. Летние какие-то картинки, когда уже прям смеркается. Я сейчас вспоминаю эти все штуки, и блядь, даже не выразить, как тогда это все волновало. Даже сейчас очень сильно волнует, а если пересказывать, то какие-то обычные события.
У нас еще рядом с домом был старый советский кинотеатр, который включали по праздникам. И я там видел какой-то мультик про обезьян, который шел полтора часа. И я помню, это было такое потрясение — что мультик это не «Ну Погоди», не пять минут перед сном, а полтора часа идет! Я там с этими обезьянами уже поселился! Никакие наркотики рядом не стоят с этим переживанием.
Еще у нас была тема с этими «банками», пиздец просто, такие баталии! Палку ты нашел счастливую, ты, сука, спишь с ней, заряжаешь ее на победу. «Ножички» тоже было интересно — круг резать, отрезать себе землю. Когда я завоевывал себе землю, у меня прямо экстаз был. Еще у нас была стройка возле дома. Это было, блядь, царство целое, где мы лазили. Там в котлованах головастики водились. И мы же все извилины этого фундамента знали — где можно спрятаться, где под какую плиту залезть. И никого же там не было никогда, это было прям своим местом, мальчишеский мир, где хуи нарисованные старшими ребятами.

Я труп один раз нашел. Кто-то сказал из ребят, что там-то и там-то — труп. Мы пошли смотреть. И действительно видели тётеньку, порядочно вздутую. Я в кусты лезу, и вижу нечто, я на него смотрю вообще без эмоций, что-то такое лежит. И потом у меня мозг складывает в голове, что это человеческая форма, неестественно вздутая. И блядь, это меня так напугало. Мы дошли до телефона-автомата, позвонили в милицию. Они не поверили, сказали: «Сейчас приедем, пизды вам дадим!» — на этом все и кончилось.
У меня был брат, двоюродный, но мы жили вместе, так что практически как родной. Мне было шесть, ему семь. И его на лето отправили в деревню, а он неудачно вышел из автобуса, и его снес Камаз. Я хорошо помню, как пришла похоронка. Почтальонша меня увидела, сказала: «На». И я бабушке открытку даю, она читает — и я был очень удивлен, потому что они начали орать и ругаться сразу. Тогда я ее первый раз в жизни видел плачущей. Мне ничего не объяснили, только помню, как меня тащили с ним прощаться, когда он лежал в гробу, а я сопротивлялся. Я помню, что ощущение смерти вообще не понимал.
Просто ты в детстве как-то живешь, ты все принимаешь как есть. Ты же не задумываешься, вообще ничему оценку не даешь. Реагируешь — нравится, не нравится. Здесь и сейчас прям.
Мне кажется, Дима всю жизнь вспоминал этот свой детский взгляд. Пытался снова его ощутить, удержать, выразить. И дети из коррекционных интернатов его цепляли как раз этим утробным, непосредственным взглядом на все. Думаю, и фотками, и своей социалкой он всегда хотел позаботиться о том себе. Как-то у него была карточка из Иркутска, где на бетонных ступеньках тоскует одиннадцатилетний гопник. Подпись была «Можно выйти из дома, сесть на самолет, пролететь 5 000 километров, пройти две остановки по главному проспекту города, свернуть во двор перед парком и оказаться у своего подъезда». Я чувствовал, что Дима все еще сидит там, мерзнет и боится идти домой. Он всегда снимал детское одиночество — и тех же самых детей, только уже рассованных по взрослым телам, слегка отупевших, спившихся, запихнувших это одиночество далеко под шкаф, вспоминающих его только с бодуна — но в остальном мало изменившихся. И еще он везде замечал нежность между родителями и детьми, снова и снова, не мог перестать.


На очень многих фотках у Димы - ребенок на фоне какого-то убогого задника, какой-нибудь блочной стены, чего-то максимально некрасивого. Диму постоянно волнует это сочетание. Ребенок - он такой маленький еще, живой, и он этой живостью контактирует с брутально-равнодушной средой. Оно же почему такое уебищное - потому, что за ним не ухаживают, не любят, всем похуй. На это душа сразу и напарывается.
Каждый раз было жалко этого его внутреннего пацана. Ему тоскливо, скучно, он лазит по стройкам, пустырям, гаражам, заснеженным ж/д путям — и везде видит вечность. Она и манит, и в то же время хочется куда-нибудь от нее деться, занюхать клеем.
Дима часто говорил, что детство это пиздец - и что ему хочется туда вернуться. На самом деле, никакого противоречия тут нет.
Юность
У нас был класс В, для самых дебилов. Ощущения самые ужасные. У нас постоянно там были перепалки, какие-то драки, постоянная демонстрация собственной силы и превосходства. У нас была там куча ребят из семей еще хуже, чем моя. Было очень, блядь, сложно в этой иерархии держаться. Потому что никому не хотелось быть козлом отпущения, а с другой стороны мои физические способности не позволяли противостоять должным образом. И я держался как-то обособленно, какие-то обиды сносил, но когда доходило до крайностей, я входил в какой-то, блядь, как это называется — хватался за камни, палки. Меня пиздят, а я — в аффект. А было несколько совсем слабых ребят, которых очень страшно пиздили. У нас в школе теплица была — вот за теплицей. И сам этот процесс… Оно было прям организованно, после уроков: «Щас мы его наказывать будем». Пиздили они их, за какие-то, якобы, провинности. Не просто дали пизды, а с унижением всяким. Тоже популярная хуйня — стравливать двух слабых: «Если не будешь драться — будешь со мной». То есть их прям ломали. Четко двое были, которые чуть в петлю не залезли, так что одного даже увезли в Тверь. Потому что его травили не только в школе, а во всем районе. Помню, его чуть не опустили в подвале.
— За что?
— На самом деле просто за какую-то слабость. Прикладного в этом мало. Я не думаю, что это было какое-то прям удовольствие, думаю, просто какие-то острые эмоции. Там был такой костяк, человек четыре-пять одноклассников, которые начали пить, курить, жрать таблетки. Какое-то время я с ними тусовался, бродили, кошек убивали, шприцы находили. Потом один из них на мотоцикле разбился, а другой сидел, потом его ебнули где-то в подворотне. У нас был период какого-то общения, помню, мы лазили с ним на крышу к моей бабке — нашли способ отломать замок и тусовались там постоянно. Но потом я начал от этого отходить, вся эта хуйня с кошками меня не устраивала. Я не то чтобы порицал, но как-то отмораживался, а у них это вызывало, наверное, нехорошие чувства — и началась ненависть. Были ребята, которых я вообще ненавидел. Но сейчас, когда есть волонтерский опыт с этими детьми, он эту тему во мне уложил. Я понял, что нету источника абсолютного зла, все взаимосвязано. У одного из них отец каждый вечер надевал боксерские перчатки и пиздил его, чтобы в нем злость разбудить, считая, что делает его более мужественным. А он шел на улицу и там всех пиздошил.


Очень сильно били меня в школе: по лицу, руками, ногами, по-всякому. Там же убивали за бутылку водки — прям ножом, блядь, въебал и все. В тюрьму уезжали, умирали. И когда тебе 20, ты можешь поехать в Москву, куда-то переехать жить, а когда тебе 14, никуда ты из этого окружения не вылезешь. И хочешь — не хочешь, начинаешь к этому так или иначе принадлежать, надо с этим какое-то взаимодействие построить. Потому что те, кому не удавалось построить, им пиздец. Если тебя бьют все твое детство, то скорее всего, взрослая жизнь не заладится. А в детдоме это все усугубляется — там человек вообще один, ни мамы, ни папы. И либо ты хуяришь, либо тебя хуярят.
Дети же, как обезьяны, повторяют все, что происходит в семье. А семья видит, что происходит в обществе, в политике. В стране убивали, воровали, и в семьях старались где-то что-то спиздить. И дети сделали в школе какое-то подобие зоны — никто над этим не задумывался, просто делали.
Учителя — мы воспринимали их враждебно, как и всех взрослых в принципе. Можно, конечно, сказать, что мы были плохими подростками — но они же все закрывали глаза на то, что происходило. Приходили ребята с разбитыми в кровь лицами, а классуха говорит: «Иди в туалет, приведи себя в порядок!» Ни один же не вмешался. Приходили из дома чуть ни в трусах, в каких-то трениках с пузырями — их просто отправляли с уроков. Паренек съебал из дома, потому что там какой-то отчим, который не любил его, и он дома не ночевал, по улице бродил, а всем взрослым было насрать, они делали вид, что этого нету. Была такая Катя Принцесса, которую ебали все, от мала до велика. У нее родители алкашня была страшная. До того, что просто толпа стояла под окном, долбили ногой по двери, пока мать не орала: «Да выйди, блядь, они дверь щас нахуй снесут!» И она шла обслуживала всех.


Я помню, у меня друг был, и его прям били сильно. И потом у нас случились летние каникулы. На три месяца он уехал, приезжает, я ему говорю: «Блядь, Сань, ты должен как-то просто набраться сил, дать сдачи, чтобы это остановить все». И прикинь, в этот день я выхожу из школы, и меня тащат за гаражи. И там этот чувак, который пиздил всех: «Ты чего ему сказал?» Я: «Че я сказал? Ничего не говорил». И тут Саня сдает мои слова… Ну и понимаешь дальше, я за свою инициативу получаю.
— А почему, как ты думаешь, это все было?
— В этом есть простая логика: когда ты держишь какую-то группу людей в круговороте насилия, ты должен его постоянно поддерживать. И эти все мероприятия — драться с тем или этим — это нужно просто, чтобы держать всех в этом состоянии, чтобы никто из него не вышел. Ты должен поддерживать градус насилия — иначе это все развалится. Большая часть ребят там, конечно, печально закончила. По-моему, все они уже мертвые.
— Почему?
— Потому что отношения основаны на насилии. Разборки, проблемы, это напряжение переживать тяжело, надо сниматься. Героин почему стал так популярен? Ты же там настолько расслабляешься, что забываешь дышать. И поэтому все сразу стали его хуярить.


Но потом я стал работать с такими детьми. Вот, блядь, я прихожу, вижу этих ребят. Это сложно объяснить, это как в фотографии — есть какие-то интонации ощущений, которые не передать литературным языком. Смотришь на их повадки, реакции, язык тела, как они выдают какие-то тики, и просто как-то начинаешь их понимать. Читаешь личные дела: Миша восемь лет мать вытаскивал из петли, а отчим его пиздил. Ты просто видишь эти обстоятельства, как их жизненный механизм перекрутил. Мы все хотим быть правильными и хорошими. Но я увидел, что при других обстоятельствах вряд ли я был бы правильным и хорошим человеком.
Пробуждение
Когда мне было четырнадцать лет, начались компьютерные игры, которые меня очень радовали. И я даже помню, как после одного адского закидона у отца, он мне приставку купил — из чувства вины. И был какой-то компьютерный журнал про все эти восьмибитные, 16-битные игры. А там был конкурс на лучшее описание игры. И я решил написать.
Помню, что мне почему-то очень нравилось писать. Доходило до того, что я просто брал книжку, которая мне нравилась, и ее переписывал. Не тупо переписывал, а как-то пытался оформить, чего-то там выделял, все это делал красиво. И помню, я как-то так серьезно подошел к этому описанию игры. Прошел ее десять раз вдоль и поперек — потом сел писать, месяца два занимался. Я писал в тетрадку — такие большие, 86 листов. И это было для меня очень прям важно. Помню, в какой-то момент отец пришел пьяный и начал орать: «Че ты, блядь, делаешь?! Иди на улицу, че ты тут сидишь!» А мне сразу обидно очень стало. Я половину игры только описал, нахуярил тетрадку эту почти до конца. И я психанул, не стал дописывать, пошел на почту и заказным письмом ее отправил. Меня обидело как-то очень сильно — я же ничего не делал плохого, я хотел сделать все правильно, чтобы выиграть приставку. А он наорал. И еще потом, блядь, купил этот журнал, где были итоги конкурса, пришел пьяный и сказал, что меня там нету! А я открываю вторую страницу — и я там есть, третье место. Третье — за то, что не дописал до конца.
Ты спрашиваешь, когда я осознал себя? Наверное, в тот момент, когда родители впервые начали осознавать меня. Потому, что когда в журнале увидели, они реально охуели. Там же было вручение, приглашали в Москву, снимали телевизором. Они вообще не знали, что такое писать. Но я тогда понял, что я молодец. Мне уже на их одобрение было насрать.


И еще до этого был какой-то момент, когда отец как-то очень неправильно ругался — я почувствовал, что я умнее их обоих. Что они не понимают, что происходит, а я понимаю, почувствовал какую-то их абсурдность. Это было какое-то печальное очень понимание.
Я начал думать, что делать дальше. И я пошел в районную газету — прям просто пришел туда и сказал, что я хочу писать статьи. Как ни странно, моя первая статья была про наркотики. Мне было лет пятнадцать, у нас там таблетки все жрали — и я про это написал. В газете на меня достаточно с добротой посмотрели. Меня тогда приводило в неописуемый восторг — что какую-то твою мысль растиражировали на…
Если бы меня отдали в какой-нибудь кружок или папа дал бы мне фотоаппарат, который я очень просил… Папа не фига не снимал, но дорогая вещь, просто, сука, лежала на своем месте. Если бы я фотографией занялся, не в 25, а в 15, то у меня бы все лучше и иначе сложилось. Было четкое инстинктивное желание это все покинуть. Я верил во что-то лучшее, чего не представлял, но понимал, что точно, блядь, не это.
Наталья
Я со своим другом Саней открыл для себя брейк-данс. Саня это, наверное, единственный мой друг с детства. Мы с ним очень близко тусовались в школьные годы. Брейк нас объединял и музыка — кроме нас, музыку там никто не слушал. Но когда я начал писать и восторженно это все объяснял, он этого вообще не понимал. Его взяли в армию, а когда он пришел, произошла какая-то мутная хуйня, он из кабака пьяный поехал куда-то, а на утро его нашли на железнодорожных путях. Менты написали, что его сбил поезд, хотя это хуйня, у него следы удушения на горле были.
Брейк капитально все изменил. Тогда в нашей деревне все на нас как ни идиотов смотрели. Но через какое-то время у нас началось получаться. А Саня жил в общаге, и мы попросили у коменданта, чтобы нас пустили в какую-то пристройку, где мы могли танцевать. У нас не было ни асфальта нормального, ни оргалита — картонка из-под телевизора лежала на земле, было очень сложно танцевать. А потом кто-то про нас доложил в комитет по делам молодежи. Они не понимали, что мы делаем — спорт какой-то странный — но для них это было лучше, чем сидение в подъездах. Хотя и в подъездах мы точно так же сидели.
И нас пригласила женщина, которая работала в этом комитете. Это было в соседнем поселке, Мамонтовке, поселок еще более печальный, чем мой. Там был заброшенный кинотеатр, который захватили малолетние гопники и начали там тусоваться, бухать, курить, трескаться. И там была одна очень замечательная женщина. Это был первый деятельный человек в моей жизни, прям, с позицией, блядь. Она что делала? Она обошла этот ебаный КДМ и уломала, чтобы ей этот кинотеатр дали. Сказала: «Я там сделаю все нормально…» А контингент, ты понимаешь… Но так как Наталья реально всех любила, она говорит: «Ребята, давайте все сделаем». Наталья всех знала, все бандиты там ее — и она так сделала, что нам включили свет и отопление по одной трубе. Она объяснила нам, что не надо по дворам шароебиться, вы пейте здесь, вас здесь не тронут. И менты это тоже понимали — потому что, во-первых, менты это бывшие гопники, а во-вторых, им тоже было удобнее, что мы сидим в одном месте, чем по подъездам бухие лазаем. Ну и плюс Наталья пыталась вести какую-то работу, звала отовсюду бибоев — с Пушкино, с Мамонтовки, — и мы там плясали. И еще каким-то музыкантам дала помещение, где они репетировали. И мы там действительно, бухали, курили, старшие ребята кололись — но все как-то друг за другом присматривали. Наталья знала, кто чем дышит, чем живет — и это было очень здорово, правильно, всех устраивало.


Нас всегда закрыть пытались, а Наталья ходила, давила на жалость, объясняла, что нельзя закрывать, что мы потом хуй знает куда пойдем. И я помню, был День Победы — и Наталья говорит: «Все, ребят, я больше не могу, давайте покажем, что у нас все прям заебок!» И кульминацией нашей жизни было, что, блядь, мы ставили там спектакль для ветеранов — «Цыгане» Пушкина. У меня причем главная роль была. Это, конечно, был пиздец, перед этим все напились от волнения.
Наталья в какой-то момент поняла мой потенциал и начала пробивать контакты каких-то изданий, я уже даже в Москву написал. У меня не было телефона, компьютера, я писал от руки, а потом в КДМ вбивал все это на компьютер. В общем, Наталья морально поддерживала. Ты же понимаешь, что какая-то похвала или слова одобрения — они необходимы.
Дима всегда искал организации, которые залезают в самую помойку и протягивают руку одинокому человеку — «Отказники», «Упсала Цирк», Костромская «Ночлежка», «Выжившие» и т.п. Потом я понял, что они ассоциируется у него с чем-то личным, детским и романтическим. Наверное, с Натальей, которая собирала их, малолетних нариков, в заброшенном кинотеатре.
Друзья
И потом произошло, наверное, самое важное в моей жизни событие. В какой-то момент недалеко от кинотеатра дом большой, двухэтажный, купила молодая пара. Ну то есть Саше уже было за сорок, а Рите лет двадцать семь. Этот Саша был музыкантом в группе «Рондо», какие-то рокеры, Агузарова. А Рита шила костюмы для театра. Они решили уехать из Москвы и купили этот дом. Рита после перестройки лихо намутила кучу недвижимости, у нее оказалось пять квартир. А потом цены поползли — и они жили на то, что продавали эти квартиры. Саша писал музыку, а Рита просто его любила. Они переехали туда и решили поработать с молодежью. Они пришли в этот КДМ — сказать, что у них есть большой дом, студия и куча времени. И как раз наткнулись на Наталью, которая сказала: «Хо, так мы у вас под боком, у нас столько работы, бля!»
И я помню, я там сижу — и приходят Рита и Саша. Они выглядели, блядь: Рита страшно рыжая, в больших очках нелепых, а Саня — музыкант, длинные волосы. Я таких людей еще не видел, и меня тогда музыка очень интересовала.
И вот нас человек пять пошли к ним в гости. Приходим — там дом такой, еще не все отделано, штукатурка, все разбросано, собака огромная бегает. Саня сразу же начал музыку свою играть. Мы сидим, слушаем — и смотрю, Рита достает штакет, закуривает и просто, не слова не говоря, дает мне. С аристократической небрежностью. Я таких взрослых не то что не видел — я даже не знал, что они существуют. Когда я сказал, что я пишу заметки — это были первые люди, кроме Натальи, которые сказали: „М-м-м, круто!» Мы с ними подружились буквально за несколько дней. Они очень меня приняли, я пару раз оставался у них на ночь. Я очень восторженно ко всему относился. Я Саше все показывал, свои эксперименты в текстах, и что-то пытался с музыкой делать. И он очень с каким-то уважением относился — не к продукту, а к творческому импульсу, как-то серьезно все это рассматривал. И это вселяло в меня какую-то уверенность.


А к середине лета Саню убили. Они вели такой образ жизни, старались познакомиться с поселком, вообще всех пускали домой. И какие-то мудаки пытались их ограбить, думали, что никого нету, а Саня вернулся, произошла драка. И Рита осталась одна в этом доме. Сказала мне: «Я не знаю, как жить, что делать» попросила, чтобы кто-то пожил — и тогда я переехал туда жить. И еще Сашин очень хороший друг Валера туда переехал. Она, конечно, какое-то время была в трансе. Но там все время были компании и как-то… Потом она ушла в работу, начала шить. Как-то так год и прошел.
Я тогда учился в техникуме. В принципе, у меня были достаточно ограниченные механизмы взаимодействия с миром, я тоже был весь в себе, как отец. Мы начали активно бухать в кинотеатре, потом курить. Потом ребята меня сводили на грибное поле. Там вообще пиздец был, я сожрал тридцать штук, у меня пошли такие процессы изменения сознания. И к тому моменту, как Сашу убили, я уже очень сильно пристрастился к этим грибам, и у меня уже крыша ехать начала. Они меня страшно морочили, а я почему-то продолжал их жрать — и сходил с ума. Я говорю: «Рита, у меня крыша едет, что мне делать?» Она: «Поговори с Волосатым, он в этом профессионал».
А Валера такой был интересный персонаж, нигде не работал никогда за свою жизнь. Он тоже был в их тусовке музыкальной — и двенадцать лет наркоманил страшно, включая пущенную по вене комбинацию винта и кетамина. Я не отваживался на такие эксперименты. Потом он все это оставил, заперся в избушке и несколько лет сидел, читал, вел отшельнический образ жизни. И у него было много друзей, которые приезжали к нему на разговор, он им вправлял мозги — а они его грели едой и т. п.
Я начинаю ему спутанно все излагать, а он говорит так, четко: «Ну все понятно, тебе надо бегать по утрам». Наш первый разговор — я не помню, о чем мы говорили, — но помню, что меня это потрясло! Он объяснил мне, что происходит с миром, со мной. И потом постоянно подтверждалось, что у Валеры есть ответы на все вопросы. Они, может быть, где-то несовершенны, но в принципе его картина мира настолько монолитная, что ему все понятно. Он может дать комментарий ко всему, происходящему в новостях, ничего загадочного. И при этом ему в этом во всем нормально жилось, легко. Он чем-то возмущался — но это не было такое бессильное возмущение. В его картине мира он прям выглядел очень счастливым. Его не парило отсутствие денег, работы или каких-то планов — он вот прямо хире энд нау — и нормально жил. И это меня очень сильно потрясло — потому что, ну представь, после моего отца — увидеть такого человека, это было сильное впечатление. Даже, пожалуй, чересчур сильное, потому что я теперь понимаю, сильно всего позаимствовал от Валеры.


Я очень поражался, как он может выражать свои мысли. Это было таким искусством, которое я, затаив дыхание, наблюдал. Когда я сказал, что завидую ему, он мне посоветовал читать поэзию, где в двух строчках сформулировано очень много смысла. Мы с ним говорили каждый вечер, по нескольку часов.
Рита продала дом и оставшиеся две квартиры, построила себе на берегу Онежского озера дом и уехала туда жить. А я поехал к Валере, жил у него, потом подумал попробовать пожить один.
И мы сняли частный дом в Пушкино с моим товарищем Ваней. Он был интересный: уехал с Украины к брату, который здесь работал в Лужниках, на рынке. С братом поссорился, несколько раз ночевал в кустах. А моего друга мать работала на этих Лужниках. И в какой-то момент его мать приезжает с рынка с этим Ваней: «Вот, ребята, познакомьтесь, он у нас пока поживет, возьмите его себе в компанию». И в общем, мы сбились и Ваней сняли этот дом. Это громко сказано — комната раза в четыре меньше, чем эта. Там только электричество было — ни воды, ничего.
Он работал на рынке, а там все очень строго: если не выходишь или опаздываешь — моментально прощаются и берут другого. И он получил наконец какое-то место хорошее, которое хотел, грузчиком. И в один из первых дней он проспал. Электричка через пять минут отходит. А надо именно на этой, если позже — то опаздываешь на час. И он вскакивает — просто натягивает штаны и бежит. И когда выбегает на платформу — электричка трогается. И вот ему настолько было нестерпимо, что он голыми руками бьет стекло, это стекло туда заталкивает — электричка быстро набирает скорость — и на ходу залезает. Много таких вещей он делал. Не уверен, что Миша так сделал бы.

Ваню нисколько не парило, что он один остался в чужом городе, он никогда не хотел обратно, и всегда был веселый. И приятно удивляло его сформулированное отношение к каким-то вещам. Например, он просто шел домой, увидел, что деда-бомжа бьют на улице, начал вступаться. А там подтягивают каких-то пацанов, и Ваню чуть не убивают. Но это же надо иметь смелость и четкую позицию по этому вопросу. Довольно редкие качества в этом возрасте.
— Удивительно, что можно это стекло пробить кулаком…
— Можно, я сам бил лично, своим кулаком. Мы, когда в Мытищах учились, я там с долбоебами связался, у нас было такое развлечение, бить стекла. На самом деле очень легко, особенно зимой, когда они мерзлые. Ужас, блядь, не понимаю, как сходило нам с рук.
— Ты не режешься, что ли?
— Конечно, режешься. Но ты же это делаешь пьяный — трезвому не приходит такое в голову. И если ты просто заходишь в вагон — все как-то сидят, своими делами занимаются. А если заходишь, разбивая тамбур, то все сразу ах — на тебя смотрят. И это заводит как-то — все сидят тихо, на тебя смотрят, а ты такой идешь. Хотя все карманы забиты, на пять лет можно уехать, а ты идешь. При нас даже мент один ушел из вагона, когда мы хуярили стекла!
А еще я как-то у мента прикурил косяк — на спор! У нас был переход под землей в Пушкино, там менты дежурили постоянно и всех принимали. И мне один уебок говорит: «Я прошел прямо по переходу, анашу курил»… Я говорю: «Да?» И мы идем всей толпой, человек пять и менты стоят. Я себе дудку забиваю и говорю товарищу: «Я сейчас остановлюсь у них, а ты меня окликни». И подхожу: «Можно прикурить? Мент мне дает зажигалку. И Сережа меня окликает: «Эу!», я поворачиваюсь к ребятам лицом, прикуриваю косяк, отдаю менту зажигалку. И понимаю, что я король просто!

В пятнадцать лет в мозгах такой винегрет из ебли, космонавтики и всего остального. Я думаешь, мечтал стекла бить? Я просто однажды пошел с ребятами, подумал: ну, не дуть я уже пробовал — интересно, дуну. А подуть и под водку — о, вообще интересно! А подуть под водку и в электричке — кайф! И стекла еще побить — вообще прекрасно! Тебя бы тоже это увлекло, если бы ты там оказался.
Я тут выпил недавно, вспомнил, как стёкла били, подумал: а смогу ли я сейчас? Пизданул, расхуярил на Китай-городе стекло. И раздухарился, хотел еще чего-то разбить, но понял, что надо остановиться, чтобы это опыт был такой, приятный. Вернулся в прошлое — и сразу обратно. Зачем, блядь, стекла бить руками?!
Карьера
Мытищинский машиностроительный техникум, это, конечно, был адский ад. Я учился на автоматизатора технологических процессов производства — и единственное, что я запомнил, это название специальности. Мне кажется, я могу сейчас разобраться в том, как ткут вафельные полотенца, может быть, даже найду это любопытным. Но электротехника, гидравлики — эти вещи просто парализовывали мой мозг. Еще практика началась — на станках выпиливать какую-то хуйню железную. Но в техникуме компания была поприятней, чем в школе. Я нашел там себе товарищей, с которыми мы водку жрали, план курили — потому что иначе невозможно было туда ходить. Каким-то образом я там даже сдавал сессию несколько раз — хитростью, списыванием и какими-то еще ухищрениями.
Потом меня все-таки отчислили. Но я провернул план, который услышал где-то в техникуме, - сдал экстерном десятый-одиннадцатый. Там платишь пятьдесят рублей за бланк, приходишь в школу, тебе на доске просто пишут экзамены и решения, ты их переписываешь - и все, у тебя аттестат. Я нашел в Тарасовке — это между Мытищами и Пушкино — бывшую академию сферы быта и услуг, которая себя отформатировала, став Московским Государственным Университетом (с маленькой подписью — «сервиса»). И у них сразу появился широкий выбор специальностей, в том числе «филолог». «Тарасовка» была известна на всю Москву как самое продажное учебное заведение, и при этом недорогое. Я понял, что дорога мне открыта только туда. Я пошел, поступил в это МГУ на платное и подумал, что сейчас моя жизнь наладится.

И вот я, блядь, в первый день иду на учебу, гордый собой — и это был единственный день, когда я ходил на учебу. Потому что я посмотрел на людей, которые со мной учатся, на преподавателей — и такую тоску это вызвало. Но потом началась сессия. Я понимал, что меня сейчас опять отчислят, и провернул такую фишку. Просто зашел к ректору и говорю: «Здравствуйте, меня зовут Дима Марков, я должен сказать, что я человек неплохой. Не то, чтобы я как-то злонамеренно забиваю — просто у меня другой интерес, мне нравится писать статейки. Давайте, может, как-то договоримся: вы мне дадите шанс исправиться, чтобы не идти в армию, а я могу написать статьи про универ». И это проканало — ректор меня направил к начальнику информационного департамента, и я начал делать студенческую газету. Когда меня привели в «профком» знакомить, я понимаю, что все эти лица я видел на грибном поле, где мы собирали поганки: «О, привет»… И мы, конечно, сразу подружились, я делал эту газету, все туда писали, а они радио делали, постоянно накуренные и бухие. Я числился, какие-то оценки они мне ставили, Шляпин звонил преподавателям, объяснял ситуацию. У меня был даже маленький кабинетик. Когда я газетой занялся, это была скучнейшая херь, которую читать невозможно, где заслуги университета, интервью с проректором по воспитательной работе. А тут появились потрясающие литературные странички, где все торчки, обдолбившись, упражнялись в искусстве, писали рассказы. Шляпину можно было объяснить, что это особенность современной стилистики. Я говорю: «Нам придется писать на какие-то темы, которые будут не всем нравится». И моя кафедра постоянно писала на меня жалобы ректору, что это газета, где низкий нравственный уровень. У нас был, например, репортаж с задворков магазина «Марфуша», где все бухали.
Так как я уже являлся редактором студенческой газеты, то уже мог делать интервью, с кем хочу. Мы ездили, сделали интервью с Дельфином, с «Тараканами», еще с кем-то, это было круто. Газету мы печатали на ризографе и даже продавали под конец, за пять рублей. Шляпин был в курсе моих увлечений, но мне спускал в виду того, что я творческий человек. Вообще был забавный чувак, у него было похоронное бюро, а и периодически, отрываясь от верстки, я делал похоронные таблички или проспекты новых гробов с вензелями. Но я в любых состояниях отвечал за работу. Было два-три эпизода, когда он меня домой отправлял — просто я случайно сожрал пачку димедрола, мне было очень плохо. Но я даже пришел на работу.
А потом я устроился в «Аргументы и Факты». Случайно совершенно — просто проходил мимо. Я был на Лубянке, замутил там трамала. И шел оттуда до вокзала по Мясницкой. А от трамала тебя очень тошнит в первый момент, когда он цепляет. А я еще когда написал первую статью, которая всем в КДМ понравилась, — мне за нее дали грамоту, и вручали в пресс-центре АиФа. Так что я там уже был, и я помню, что там как в библиотеке — просто заходишь, никто не это. И у меня была мысль: может, я зайду поблюю, потому что блевать на Мясницкой негде. Зашел — а там стоит охрана, я ее не ожидал.

— Вы что?
— Я… по поводу работы.
— В «Я молодой», наверное?
— Наверное, молодой…
Они позвонили — пришла девушка: «А что?» Я говорю: «Да просто проходил мимо, подумал…» И она повела меня к заму главного редактора, который сделал газету «Я молодой». На тот момент все было похерено, они не уловили нужных трендов, печатали в формате газеты, ч/б, все просрали, хотя до этого тиражи у них были фантастические. У них в конце была страница, где печатали фотографии голых читательниц, там девки были несовершеннолетние, с сиськами. И еще пацаны с болтами на другой странице. Я сам покупал исключительно для того, чтобы пялиться на эти фотографии.
Я захожу — Коля сидит в кабинете, говорит: «Ну здравствуй. Что ты хотел?» Он спросил, о чем писать и в этот момент поставил “The Dark Side Of The Moon”. И я фонтанировал идеями до конца альбома. У них в молодежной редакции осталось несколько девушек — и меня туда взяли по половому признаку, честно говоря. В двадцать все складывается моментально. Не важно, кто где. Главное, что ты пьяный, веселый, все вокруг веселые, пьяные — и все, сложилось. А уже потом, в тридцать, начинается: а может так лучше? Ой, не-ет…
Там мне дали замечательный урок. Я должен был брать комментарии, а это пиздец, повинность. Потому что, как правило, вопросы «от читателей», строятся так: «Почему у нас такая хуйня? Доколе?» А задать его надо профессиональному человеку, который такой постановки вопроса в принципе не приемлет. Или узнать у Аллы Пугачевой, сколько раз еще она должна жениться и развестись. И она должна ответить прямой речью, две тысячи знаков. И помню, я честно три часа пытался получить комментарий, и меня послали нахуй отовсюду. Я прихожу, говорю: «Вы знаете, меня послали на хуй, я ничего не сделал». И редактор отдела поднимает на меня глаза из-под своих волос и говорит: «Никогда больше не говори мне такие слова. Почувствуй себя Аллой Пугачевой, интуитивно за нее ответь или спизди откуда-то. Сделай, а потом будем обсуждать. А вот так, что ты ничего не сделал, — так больше не надо». И я понял, что в этом есть большой смысл.

— Какой?
— К работе можно относиться как угодно, но если ты работаешь, то надо делать это по заведенным правилам и максимально хорошо. Я работал в фотошколе, обучал домохозяек экспокоррекции за 15 тысяч рублей, что мне, победителю международных конкурсов, как бы не это. Но раз уж я работаю там, я должен нормально делать свою работу. Человек организовывает работу — он надеется, что здесь и здесь будет сделано. Я потом много раз сталкивался — что я даю ребятам указание что-то сделать, и слышу какие-то отмазки. И это реально бесит. Я это усвоил — и это реально облегчает отношения с людьми.
Но мне кажется, для молодого журналиста штат противопоказан. Если бы я был на фрилансе, я бы много всего увидел и испытал. А я тогда ничего, кроме АиФа, не видел, и к журналистике потерял интерес. Ушел, и не писал года три, снова писать начал только в «Ростке», вынужденно. Я написал большую статью в ЖЖ, которую подняли в топ, и потом надо было объяснять — и я начал вести этот блог.
Снимки
- Когда я начал фотографировать, то понял, что, если удается сделать кадр, это меня приводят прямо в восторг. На него смотришь — и прям очень сильное удовольствие. Сильные ощущения, детские. Но многие фотографы, сделав этот кадр, успокаиваются, и следующий кадр — уже из другой истории. А потом я понял, что, чтобы эти ощущения сделать еще сильнее, надо сделать второй такой же кадр — хотя там, конечно, другое изображение, другие персонажи. Это принцип, как я пытался складывать серию. И с некоторых пор я уже недоволен одним удачным кадром — какой бы он ни был потрясающий, он у меня уже скорее грусть вызывает, потому что он один. Просто карточка — это бессмысленно. Говорят «клево», но это мне не приносит удовольствия. А если удается сделать серию из двух — это какое-то удивительное, красивое и удачное совпадение. Из трех — вообще, а из четырех — это пиздец! Мне говорят: «Чтобы сделать серию, надо семь кадров на эту тему». Я могу сделать просто семь кадров, но это меня не штырит. Надо, чтобы они были в одном визуальном ключе, по моим критериям, исключительно удачные и переходили один в другой. Мне говорят: ну зачем. А у меня это поиск какого-то высшего ощущения. Когда ты пережил такое — надо еще выше. И это, наверное, одно из позитивных влияний наркомании.
Думаю, определяющей чертой Диминой личности была повышенная нервная чувствительность. Внешне он часто был сдержанным, но внутри был очень оголенным. Она создавала его великие снимки, давала ему возможность увидеть чужие чувства, чужую тщету и боль. И она же не давала ему жить. Дима не раз говорил, что главный кайф в героине для него это покой.
Дима говорил, что снимает среднестатистическую Россию. Понятно, что формально это не так, он снимал именно бедную, сильно алкоголизированную провинцию. Но если говорить не про социологическую выборку, а про эмоции, то все правда. Он умел проникать вглубь, за ширму плитки и сайдинга, и показывать, что Россия на самом деле чувствует, в каких живет эмоциях. И мне кажется, никто из наших современников (кроме, может быть Хлебникова с Мещаниновой) так не умеет.


Всю эту трэшанину много кто снимает. Дима отличался тем, что он сам был в ней вместе с людьми, абсолютно по-честному. Слушал их, ругался на них, говорил им, что думает, но не отгораживался. Он и так видел их в самом неприглядном виде, а они видели его. Куда бы он от них уехал? «Ты либо наблюдатель, либо участник, - сказал он как-то, - И я все время лавировал». Конечно, лавировал, куда деваться, но делал это так близко к жизни, уж ближе некуда.
Союз был замкнутой вселенной, планетой, на которой не было ничего, кроме хрущевок, очередей у винного, заборов. Россия, которую снимает Дима, - такая же, кроме нее, ничего нет. Мне кажется, этим он отличается от всех журналистов - каким-то образом он умудряется посмотреть глазами людей, для которых эта реальность - единственная. А это совершенно необходимо, чтобы услышать их чувства.
В его взгляде - какое-то глубокое принятие себя, нас, таких вот, некрасивых. Люди на его фотках такие, как есть, и тела у них такие, как есть, не соответствующие никаким стандартам, хреново одетые, но пригодные. Люди не замечают, какие они некрасивые, и в этом - огромная красота.
Мы видим старика, смотрящего на себя в зеркало на рынке - и вдруг слышим его мысли о прожитой жизни, видим ее всю.


Костлявые, незагорелые спины и бритые затылки псковских гопников говорят о том, что их хозяева любят пиво, не любят думать. Мы видим их убогость и бездуховность. Но почему-то именно духовная нищета напоминает нам, что душа есть у каждого человека. Вдруг оказывается, что неприятный полуголый гопник - и есть голый человек на голой земле.
Кривые силуэты деревьев, взгляд ребенка, ищущий хоть что-то живое в квадратах панелек. Ты обречен на этот хуевый пейзаж, и все равно находишь там красоту.
Рука папы с тюремными наколками, держащая коляску, и чистый взгляд ребенка с соской, который еще совершенно не представляет свое будущее.
Мальчик, с интересом слушающий песню старика на остановке.
Пацан, думающий над какой-то невероятно важной проблемой. В нахмуренном лбе - виден весь рельеф его разрастающегося мира.
Ненужные пенсионерки, которые постепенно превращаются в кошек и собак.
Водитель маршрутки старается быть правильным человеком, хотя он всего лишь усталый муравьишка.
Его люди чувствуют себя уютно в этом унизительном пейзаже. И я вспоминаю, что сам так же приспособился к существованию и не задаю лишних вопросов.


Димины фотографии представляют для меня загадку. В принципе почти все русские фотографы занимаются одним - пытаются увидеть в убогой обстановке смысл, красоту и юмор. И Дима делал то же самое. В большинстве его карточек мысль лежит на поверхности, юмор ясен. И тем не менее, от его снимков совсем нет ощущения ментальности. Несмотря на формальное совершенство, в них всегда сохраняется детский взгляд, ощущение всего момента. Красота нужна не сама по себе - а просто, чтобы ты замер, ощутил это низкое небо, крики ворон, ветерок с запахом бензина. В его кадрах - удивительное сочетание красоты и глубокой естественности происходящего. Они безупречно выстроены и вместе с тем не изъяты из реальности. Дима не использует жизнь ради искусства.
«Я же курил страшно. И весь мой мир - он прямо рассыпался, и сразу интересно все становится, и я готов как-то по-новому на это все смотреть.» Мне кажется, при всем мастерстве, суть Диминой фотографии - в этом детском ощущении, которое он помнил. В обостренном переживании жизни.
Наверное, это сочетание полнейшей простоты, какой-то заземленности в бытии и высокой красоты - и есть гениальность, что-то необъяснимое.

Наркота
Я очень хорошо помню начало всей этой истории. Мне было, наверное, лет пятнадцать, я прочитал рассказ какого-то американского фантаста, где герой попадает на планету, и ему предлагается покурить какое-то растение. И он очень красочно и ярко, на нескольких страницах описывает свой от этого опыт. И помню, что меня прям так заинтересовало, что такое может быть. И потом я вспомнил, что на нашей планете тоже растут такие растения. Я даже помню, что в энциклопедии смотрел про коноплю. Потом я пошел ее искать во двор, не нашел, но этот проект у меня крепко засел. Я поделился этой мыслью со своей двоюродной сестрой, ей было лет двадцать. И она сказала, что может в принципе это устроить, если я родителям не скажу. И в какой-то момент она реально зашла ко мне домой: «Ну че, пойдешь, не пойдешь?» И я пошел с ней, накурился. На меня какого-то сильного впечатления трава не произвела. Было забавно — но, чтобы прям понравилось, я не мог сказать. Понравилось, что сознание может меняться. Во мне зародилось любопытство. Я слушал какие-то рассказы других, было очень интересно. Потом еще раз мы это с ней повторили. У нее друг работал в ОБНОНе — отделе по борьбе с наркотиками, и реально прям в кабинете продавал то, что они конфисковывали. Мы пришли: «Коль, ну ты заебал, сыпь по-нормальному! Что ты там сыпешь?»
Потом я поступил в техникум и там нашел компанию ребят, которые дули постоянно. И еще они жрали циклодол, но я тогда такого сторонился: «Таблетки бля». Потом я грибы начал пробовать. Не сказать, что это было удовольствие, но это было прямо потрясение — что такое с тобой может произойти! И каждый раз мне было очень интересно своим мышлением наблюдать за своим мышлением, че-то такое.

И потом, мой товарищ Гном подогнал мне одну таблетку трамала. И вот когда я ее съел, то был пиздец! Это в принципе аналог героина, только забирает тебя медленно. И у меня же постоянно все эти диалоги внутренние, движения, а тут сразу — вх-х-х — абсолютная тишина и удовлетворение. Всем! Меня потрясло, что я внезапно услышал внутри себя тишину. Ни разговоров, ни сомнений, ни неудовольствий, просто бац — тишина.
Еще в этот период я все время находился в сильном напряжении, потому что меня выгнали из института. А я нахуй ничего не знаю, у меня купленный аттестат, я пишу с ошибками и еще пытаюсь заниматься журналистикой, а с ней че-то не выходило у меня. Не было денег, все торчали. И я в очень сильной депрессии был. Но даже осознать не мог, что это депрессия. Был мрачняк такой безвыходный и не было понимания, какой из этого выход вообще возможен.
В общем, очень сильное впечатление на меня трамал произвел. И даже потом, когда мы уже перешли ко всякой жести — амфетаминам, винту и всему остальному — я постоянно сравнивал. Ну и понеслось: я работал в кинопрокате, мы жрали этот трамал, а его продавали в Мытищах свободно. Мы прямо с утра. Если была моя смена, то ребята ехали, а если не моя, то я ехал, привозил. Что еще мне в этом нравилось — какая-то ясность сознания. Я читал, что Битлы накуривались перед тем, как с кем-то встречались. Я не понимаю, как можно накуриться и идти на какую-то ответственную фигню. А с трамалом я столько провернул серьезных вещей — встреч, разговоров. Потому что это полная уверенность в себе, вообще непоколебимая. Ясность, молниеносная реакция на все, что тебе говорят, и невозмутимость при этом, контроль над эмоциями. Ну а если сверху еще положить столько же — то просто кайф, можно сидеть, смотреть в одну точку.

И я пристрастился к этому очень серьезно. И один свой день рождения встретил в кумарах прям, потому что не было ничего, а у меня эта доза уже во все процессы в организме встроилась. Не то, что меня долго ломало, может неделю, и не так как от герыча, когда люди на стену лезут. Но все-таки это была неделя очень сильного дискомфорта, тошноты и депрессии. И тогда я впервые задумался, что все-таки не стоит этому слишком отдаваться.
Ну, естественно, в этом прокате со мной работали единомышленники, они были увлечены по порошкам, по экстази, в какой-то момент я понял, что в прокате одни наркоманы, и что у нас все время одни и те же движения — размутить. А еще там начали практиковать закрытые вечеринки: в десять часов прокат закрывался, окна завешивались одеялом, стеллажи сдвигались, ставили музыку — и там была дискотека до утра. Я понял, что сейчас что-то произойдет, и уволился оттуда. Было интуитивное чувство, что мы к какому-то пиздецу на всех порах летим. И я вовремя соскочил с этого состава. Через полторы недели там накрыли все это, плюс кто-то вынес кассу. На всех повесили серьезную сумму, и они работали еще год бесплатно, чтобы отдать деньги.
Был мрачняк, а вся эта фигня просто снимает напряжение: бац и все. Я помню, сидел, думал: ну ладно, не буду я журналистом, ну хуй с ним. Если бы я тогда как-то самостоятельно решил, что мне делать, приложил какие-то усилия, нашел способ как-то выйти из этого напряжения… И сейчас, когда у меня в жизни наступает какая-то хуйня или непонятки — я просто не знаю, как из этого выйти, кроме как по той же схеме. Это все давит, давит меня, я начинаю фрустрировать, ломаться. А треснешься - и уже как-то философски на все это взираешь, не так уже тяжело становится.
Герыч
Ну и где-то в этот период у меня случился героин. Я хотел попробовать, но не хотел колоться, просто понюхать, а мне привезли в баяне. Думаю: ну ладно, че уж теперь. У нас там был бар, мы пошли в туалет, он меня там поставил. И я прямо сполз по стене. Ты не пробовал герыч? Там есть ярковыраженный приход, особенно когда колешься в вену. Мне, например, больше в мышцу нравится, потому что медленно. А торчки — в вену, чтобы сразу в сердце, тебя за две секунды растаскивает. Мне это, конечно, тоже понравилось: он как трамал, но очень сильный. И там уже речи не идет, чтобы что-то делать. Можно только лежать и втыкать. Ложишься, включаешь одну песню на повтор — и часов двенадцать тебе просто прекрасно и играет твоя любимая песня. Она тебе не надоедает, ничего. Там нет никакой мозговой деятельности. Если сделать энцефалограмму — она, наверное, как у покойника. Просто тебе физически приятно, потому что тебе эндорфина накидали в мозг. И полное духовное спокойствие. Никакие проблемы тебя не волнуют, никакие мысли. Просто тишина, приятный покой и наслаждение существованием. Сам приход чем-то на оргазм похож, но минут пятнадцать.
Это, бля, такие ощущения! У меня было несколько раз, когда я лежал и реально, всерьез думал о том, что я, наверное, все-таки бог. Все взвесив, я приходил к этой мысли. Я пребывал в таком состоянии, которое вряд ли может быть у кого-то, кроме бога. Короче, это ненормально, не стоит в этом искать глубокие смыслы. Я просто в какой-то момент пристрастился к этой хуйне.
Понимаешь, почему люди пачками подыхают от герыча? Он что-то дает, что твоя жизнь теряет тот смысл, который был раньше. И никак больше этого не достичь. Ничего нету в принципе, ничего не существует, способного с этим сравниться. Ну может быть, когда я выиграл в международном конкурсе фотографов, снимающих социальные темы. Когда я гран-при взял, и осознал это, то такой иду по улице и думаю: бля-я-я-я. Идешь и прям собой любуешься. Вот это чуть-чуть может сравниться с тем, что у меня было ежедневно, большую часть дня.

И память об этом никуда не уходит и тебя преследует. И блядь, это тяжело. Это требует постоянно быть чем-то занятым. Потому, что как только я впадаю в какое-то безделье — все, меня прям тянет-тянет, подрывает. Если у тебя появляется мысль подорваться, а ты начнешь ее отрицать, то этот диалог ты проиграешь. «Нет, я не буду!» — «Ну как ты не будешь? Ты что, ёбнулся что ли?» И ты всё равно сломаешься. Если я сейчас решу, что я больше никогда и никак — меня охватит паника, и я быстро побегу туда. Поэтому я живу с мыслью, что, если у меня все будет плохо, то я туда вернусь.
Трамал потом перестали продавать, и я тогда был этому даже рад. В какой-то момент я нашел выход: раз в год ездил в Египет, где его продают без рецепта, в неограниченных количествах. И я просто приезжал, шел в аптеку, потом закрывался в номере, задергивал шторы, ставил жрачку с водой и так проводил все дни. А потом год как-то что-то делал.
А когда трама не замутить — я тогда герычем. Их действие схоже, но героин сильнее гораздо. Как водка и пиво. Если цель опьянеть, то, наверное, лучше все-таки водки. А если погулять пьяным и веселым, то пиво. Мне как раз нравились такие сумерки. Не когда ты лежишь полностью убитый и ничего не надо, а когда ты в этом живешь — просто корректируешь весь этот мир, и он прекрасен, все люди замечательные, а ты особенно. Ты просто супермен, можешь все, что угодно. Это каждый раз такое острое переживание, такое же яркое, детское. Приятно общаться с людьми, не хочется уходить из гостей — все как в детстве, знаешь, так сильно. Гуляешь с другом всю ночь напролет — и так все интересно. Не знаю, как еще достичь такой силы этих чувств. Сейчас мы с тобой еще полчаса поговорим — и я…
Это как, когда ты прыгаешь с парашютом — ни хера ничего не понятно. Ты мозгом понимаешь, что ты падаешь, что падать еще далеко, ты в ахуе и у тебя щеки треплются. Но никаких мыслей. А вот приземляешься, едешь домой — и только под вечер смотришь на небо и думаешь: бля-я, если я пролетел облака, значит я был еще выше! Нихуя себе! И все эмоции — когда ты начинаешь об этом рассказывать, наделяешь эмоциями, которые осознал потом. Можно просто рассказать, что ты завис в воздухе, у тебя щеки трепались и штырил адреналин. А когда ты все осознаешь, вкладываешь воображение, как пролетают облака — появляется вся эта красота. Так и тут, когда треснешься: потом, когда выйдешь из этой тишины, то все понимаешь: как тихо-то было, ну-ка еще раз.
Когда я приезжал домой под трамалом, то отец и мать рыдали — мы там мирились, всё было хорошо, я их всех прощал. Я себя слушал: ни хуя себе, на что я способен! Это же я! Просто наркотик позволяет мне сделать вот такое. Это же не он извиняется сейчас перед мамой? Он снимает что-то, что обычно во мне находится. Но это восхищенное понимание, что ты можешь, сменяется осознанием, что по-трезвому ты ни хуя не можешь повторить. Вернее, можешь, но ощущений таких нихуя нет.
Конечно, мне хотелось это все как-то проработать. Но я понимаю, что это химия. Внутренний покой, детские ощущения — это просто мои интерпретации химического воздействия. Эндорфин, гормон счастья, обычно попадает в кровь четко в ограниченном количестве. А героин провоцирует выброс эндорфина в огромных, блядь, количествах. И для любого человека это будет высшим кайфом — но каждый его интерпретирует по-своему: для меня это внутренний покой, а для кого-то бесконечный оргазм, не знаю. И это бесполезно осмыслять. Тут можно только элементарно осмыслить, что это химическая херня, и ничего в ней нету.
Помню, в тот момент мне тоже было несладко. У меня был кризис среднего возраста, я сидел с маленькими детьми и ужасно заебался. Мне казалось, что я больше ничего не чувствую, и жизнь кончилась. Я жаловался Диме.
— А тебе не приходило в голову зайти с другой стороны? А что если все так и есть? Так, как ты говоришь. Что тогда? Может быть, это надо принять?
— Делать не то, что хочешь?
— А ты думаешь, что твои искренние желания всегда тебе во благо? Знаешь, мне два раза в месяц снится, что я трескаюсь героином. Во всех подробностях, и я приход чувствую. Это очень искреннее желание, и мой мозг способен мне объяснить, что всё бренно, надо получать радость здесь и сейчас. Но я знаю, что как только это желание хочет начать со мной диалог — надо просто сразу уходить. Или желание наорать на Мишу — оно очень искреннее, это выход эмоций. Но я понимаю, что толку от него никакого, он просто слушать не будет.
Если наркотики на что и повлияли — так на то, что иногда я думаю о себе как о биологическом объекте, который работает в рамках химических законов. И какие-то свои мысли, желания — иногда я их просто на корню пресекаю. Какими бы искренними они ни были, я могу их отсечь и не считать их собственными — хотя могу переживать их сильно.
Потом все, блядь, меняется, наркотик подчиняет, заполняет собой все. Я понимаю, что если у меня будет неограниченный доступ, то я не смогу удержаться, деградирую, ничего не смогу с собой сделать. Если появится возможность покупать трамал или появится барыга знакомый с легким контактом по телефону… Вот ты достаешь анашу — у меня сразу все выстраивается: я дуну с тобой, потом ебну, потом… Столько раз это уже было! Когда я пьяный — такая ностальгия по этому всплывает, начинает тебя захватывать, так этого хочется!
Я боюсь не того, что себе жизнь гублю, а что просто отъехать можно. Честно говоря, все последние разы я употреблял пьяный — а пьяным вообще нельзя колоться, передоз. Бывает же, что порошок никакой, а бывает, что пиздец. У меня бывало, что меня поставили — а потом я очнулся в ванне, голый, все надо мной стояли.

Дважды мне говорил барыга: «Ты, может, протрезвеешь сначала?» А у меня все, мозг полностью отключается. Теряется весь страх: шприцы чистые, не чистые — уже похую. Я очень сильно болел, мне сказали, что у меня печень. Меня это не удивило, потому что я кололся грязной иглой, после цыгана, у которого гепатит, вич.
Ты все разрушаешь, действуешь деструктивно — по отношению к себе, к своему телу, к вещам. Понимаешь, в этом, как в сексе, много всяких прелюдий. Торч на притонах, эти все мутки, движения, найти бабок, поехать взять, этих кинуть, с теми договориться, у этих отсыпать — это, блядь, так весело! Тебе приносят удовольствие не какие-то созидающие вещи, а когда в русскую рулетку играешь.
И эти состояния, в которых я бесконтрольно действую, — я их не хочу допускать. Поэтому я зачесался, пошел на группу. Одно время для меня сдерживающим фактором были интернатные ребята: я понимал, что я за них ответственность несу. Но у меня уже нет сил. И я сейчас боюсь идти к врачам, потому что если выяснится, что все, блядь, терять нечего…
Камикадзе
Однажды Дима пришел на кухню и весело сообщил, что сдал анализы, и у него ВИЧ.
— Я понял, что моя тоска и депрессия обусловлена простой хуйней, что у меня вирусный процесс. У меня прямо инсайт был! Теперь учитывая, что мне нечего терять, я могу вокруг себя собрать людей, которым нечего терять. Я же все время обращал внимание на этих экстраординарных пациентов, типа Володи. А может, попробовать, наоборот, в Порхове собрать из интернатов всех «прокаженных». И если у нас будет какая-то великая идея, то мы сможем что-то сделать.
— Взять власть?
— Нет, ее надо потом нести, это мы не сможем. А что-то такое яркое сделать, вспыхнуть и сгореть. У меня всегда была идея собрать таких отморозков, сделать бойцовский клуб. Они же готовы последовать за любой идеей, ее надо только придумать. Но понимаешь, все мои идеи — деструктивные. У меня по Порхову много граффити, которые мы делали с Вовой — фотографии детдомовских детей, я их переводил на трафарет и рисовал им повязки с японским солнцем, как у камикадзе. Портрет ребенка, и у него солнце камикадзе. В принципе, камикадзе — он же ничего не может создавать. Только надо правильно выбрать объект для разрушения.
Потом Дима, естественно, загрузился, сказал, что не хочет вставать на учет и принимать терапию: «Ну его нахуй, надо сдохнуть». Я начал увещевать: «Ты давай себя не хорони раньше времени. Ты ж полезный чувак…» — «Да причем тут полезный-неполезный!» — огрызнулся Дима. На самом деле, я просто хотел сказать, что он нам дорог, но постеснялся.
Как-то я жаловался Диме, что мне не хватает любви.

— Эта любовь — в ее основе всегда что-то порочное, мне кажется. Почему любишь? Потому что внутри что-то отзывается, видишь в человеке что-то свое. И становится важно, как он поступит. Стараешься сделать так, чтобы он сделал как-то. Если он сделает так, то значит твое внутреннее — оно правильно. А нет — значит, не правильно. А без любви все адекватнее. Вот ты чего вообще хочешь?
— Наверное удовольствий, физических и духовных.
— А мне хочется достичь какого-то, блядь, спокойствия, душевного покоя. Я понял, что краткое удовольствие в принципе равноценно размытому геморрою, который за ним идет. Мне хочется быть внутренне спокойным, как танк. Мне кажется, это возвращение к чему-то детскому — когда ты просто смотришь на мир, там же очень спокойное восприятие жизни. Дети могут месяцами ходить по детской площадке, и им все интересно: каждая травинка, каждая хуевинка. Но этот покой невозможен, если этим всем заниматься! Я нахожусь в состоянии неудовлетворения своей жизнью. Есть мимолетное состояние эйфории от чего-то сделанного, а состояния удовлетворения от жизни нет. Оно длится день максимум, потом начинаются мысли, что нихуя, ничего ты не стоишь, ничего ты не умеешь…
Я готов выбрать эту трезвую жизнь без творчества, если в этом увижу высший смысл. Я думал, что высшая степень творчества — это воспитание, — и я ради этого в деревне пять лет жил чистым более-менее. Потому, что мне казалось, что я что-то вкладываю в кого-то. А сейчас у меня такой уверенности нету. С фотографией мне было понятно: либо я фотографирую жизнь, либо живу этой жизнью. Ты либо наблюдатель, либо участник. И я все время лавировал. Но в деревне были особые обстоятельства, а теперь я один перед всем этим, и не справляюсь. Блядь, я реально сейчас понял: мне надо бросать журналистику и идти работать руками. А иначе я просто хуйней занимаюсь.
На группе
В какой-то момент Дима стал ходить на группу взаимной поддержки наркоманов. После первого визита он вернулся очень возбужденный, и я записал его рассказ.
— Там разные типажи. Есть очевидные, а есть такие, что никогда не догадаешься, а он уже десять лет. И там мужики очень искренне обо всем говорят, очень честно, и это как-то обескураживает cначала. Потому что это даже себе самому непросто сказать — что ты употребляешь, чтобы найти контакт с миром, и ты докатился, а навыков коммуникации так никаких и нет. Но они все очень хорошие, мне показалось, ребята.
Там двадцать человек, они говорят о своих вещах, а я понимаю каждого. Сидит чувак, говорит, что он пока ехал, его толкнул какой-то мужик, и он просто хотел ему ебало набить. И он третий час сидит, пытается сдержать в себе это все: «Блядь, сука, блядь, думаю, и так я его и так, и не могу, блядь, мысль выкинуть нихуя из головы…» Ты же понимаешь, что злиться, если тебя толкнули в метро, это не продуктивно? А тут об этом так искренне говорит мужик, по виду которого кажется, что он сразу в лоб даст, у него вообще мысли не возникнет. И на каком-то эмоциональном уровне я понял, какого рода работу он ведет над собой. Пытается разобраться, простить, не обращать внимание. Меня так сильно это тронуло! Его работа проистекает в высоких духовных плоскостях, не на уровне навыка — а смирение. Грубо говоря, там его пихнули, тут еще что-то накопилось — он не выдерживает и трескается, чтобы сняться.

Одна девочка там начала издалека, что она чувствует, что на этой неделе точно уедет в дурдом. И я сначала подумал, что она просто сумасшедшая, а потом она начала свою жизнь пересказывать, и я понял, что она еще неплохо держится. А по другую сторону другая девочка сидела, и говорит: «Ну да, меня тоже избивали и насиловали в детстве». Там были четыре девочки, и оказалось, что всех в детстве насиловали отцы — долго, продолжительно, несколько лет подряд. И истории там одинаковые: в какой-то момент они начинают юзать ханку, потом все приходит к герычу, чтобы это все заколоть. Потом начинается это патологическое влечение ко всяким уродам, и вся жизнь превращается в пиздец. И одна рассказывает, что всю жизнь она была уверена, что она наебывает жизнь, и делает все отлично: «Сейчас с этим я сойдусь, поженимся, у меня будет жилье, работа, тра-ля-ля. И вот сейчас я десять лет живу с человеком, которого ненавижу, у меня нету работы, я чувствую себя продажной и зависимой. Вот пиздец, устроилась, до могилы». У всех них прекрасное чувство юмора, самоирония на фоне этого всего.
И у нее концепция такая: «Сейчас я доживу, сестра вырастет, и я сдохну. Не вижу вообще смысла вообще ни в чем». А другая говорит: «Надо давно было с этим покончить, но я упорно, назло всему, продолжаю жить. Я ненавижу, я кого-нибудь когда-нибудь убью, мне хочется людей убивать».
Одну девочку прямо проституцией заставляли заниматься. Она говорит, что в какой-то момент наркотики становятся единственным возможным способом снять этот стресс. А потом все они доходят до того момента, когда и наркотики перестают помогать. Прям видно, что с ума она сходит. Но зато интересно, видишь, как человек тянется к правильному. И на их фоне мне мои качели уже кажутся детскими.
Там все в какой-то момент осознают, что сами выбрали путь жертвы и потом формировали события своей жизни. Ты понимаешь, что ты не в принципе плохой человек, а ты слабый человек, потому что в тебя в шесть лет пихали хуй. И у тебя есть выбор — быть этим человеком или становиться каким-то новым. И когда человек это осознает, то это уже его выбор — продолжать страдать или нет. Думаю, это титанические усилия надо приложить, чтобы перестать себя жалеть, и какое-то новое мировоззрение свое составить.

Я периодически начинаю по пьяни разговаривать с посторонними людьми — и там я говорю что-то очень личное, что я вряд ли людям близким скажу. А здесь это люди совершенно незнакомые, но ты сразу понимаешь, что это твоего поля ягоды. И они оставили телефоны, говорят: «Ты не ссы, все нормально будет, ты просто сюда ходи, если плохо будет, позвони. Если мутить начнешь, перед этим просто позвони кому-нибудь». И они меня поприветствовали аплодисментами. И это для меня, знаешь… Мне же часто люди пишут письма, дифирамбы поют. А здесь я просто понял, что это мой звездный час.
Славик
Перед тем, как попасть к нам, Дима пять лет жил в деревне в Псковской области, работая волонтером — сначала в коррекционном интернате для умственно-отсталых детей, а потом в шелтере организации «Росток», которая пыталась помочь социализации выпускников таких детдомов. Там Дима фотографировал и описывал детей в своей удивленно-издевательской манере — в результате «Росток» стал очень популярным.
В отличие от нормальных журналистов, Дима вообще не увлекался повесткой, не искал ярких тем, ничего поверхностного. Растекаться вширь ему было неинтересно. Обычно он просто начинал чем-то жить, бурил вглубь в самом невзрачном месте — и оттуда удивительным образом вытаскивал все смыслы. Мне кажется, Дима одним из первых придумал этот новый жанр блоггерской журналистики, когда человек каждый день пишет про социальную проблему, с которой работает, но вообще без отстранения, а как про свою частную жизнь, никак не скрывая эмоции. Жанр этот многое поменял, потому что корень этих самых проблем как раз в том, что общество от них отгораживается специальными институтами, языком, терминами и т. п. Я помню, районная опека не хотела делать ремонт в комнате, которая Мише полагалась как детдомовцу. Дима написал им письмо и принес на кухню нам показать. Я читал его и ржал — никогда не видел таких писем в официальные органы. Они тоже охуели, но именно оно и подействовало. В общем-то вся Димина социальная деятельность во-многом сводилась к тому, чтобы своей искренностью убедить людей в уебищной системе повести себя по-человечески.
У меня оказался записан кусок рассказа про Славика, пацана, который тоже был у него под опекой.
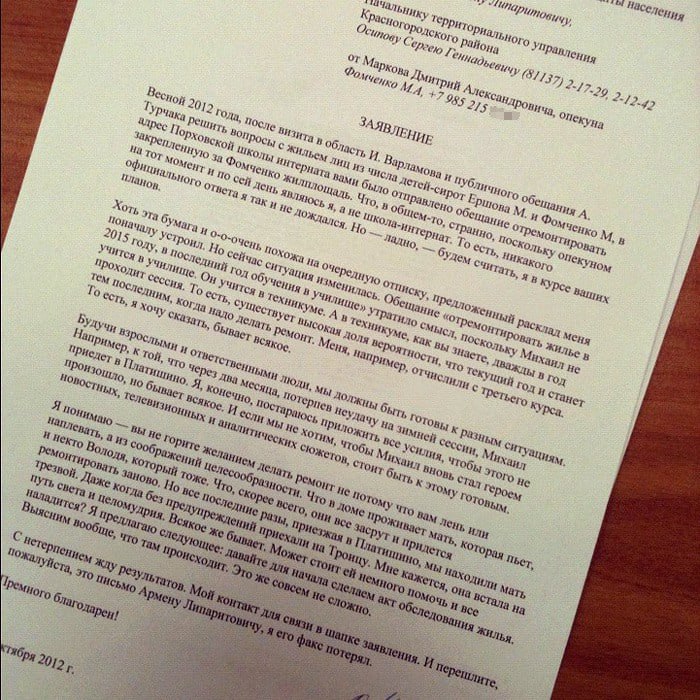
— Вообще, когда приходишь в группу, сразу замечаешь каких-то странных ребят. Истерики меня подкупают, видимо, чувствую родство — когда истерика, полный невменоз, вообще без тормозов, никаких барьеров. Я как-то прихожу, говорят: «Там Славик приехал, пойди, познакомься». Я говорю: «А что с ним?» — «О-о, Славик — это привет». Прикинь, он столько времени проводил в дурке, что я умудрился его увидеть только через полтора года после того, как начал ездить в интернат. Он жил в дурке. Раз в несколько месяцев приезжал на неделю-другую — и обратно. А он прямо такой открытый, говорит: «А ты не можешь мне яблок нарвать в деревне?» И мы идем, я ему яблок нарываю. Я его увидел и сразу понял, что он на местном фоне просто интеллектуал. Десять лет, такой шкет. Вижу, что он вообще абсолютен адекватен, а его в дурдом постоянно кладут. Я потом понял, что воспитатели, когда он приезжал, предпочитали его сразу спровоцировать — и тут же отправить обратно. Чем ждать, когда это само случится, что он ночью что-то выкинет.
Его выносило от любой агрессии. Я как-то забрал его из психушки, а во Пскове есть дисконт адидаса, и мне как ценителю это очень. Мы купили ему куртку, кроссовки, потом зашли в «Магнит» — и на выходе слышу — пищит. Я говорю: «Славик, если ты чего-то взял, ты скажи, мы сейчас пойдем это оплатим». Потому что он парень такой, у меня ножи воровал. «Нет, я ничего не брал». Я говорю: «Ну пищит же». Нет, полная несознанка. А тут уже охранник подошел и заведующая идет, такая тетка — и сразу агрессия: «Та-ак, сейчас милицию вызовем!» Ни здрасте, ни вопросов. И я вижу, как Славика выключает, он сразу матом: «Блядь, я не брал ничего!! Блядь, суки, не брал!» И истерика, что-то он перевернул сразу, упал на пол. Я хватаю его, обнимаю, мы заваливаемся где-то около мешков картошки, он бьется, я ему: «Славушка, Славушка, спокойней…» Держу голову, чтобы он не разбил об пол. Охранник и директриса — они прям испугались, отпрянули, замолчали. Он бьется, а я уже понимал, что в таких случаях убедить невозможно, надо просто держать, чтобы он сам себя не разгонял, а потом, когда будет перерыв — просто переключить внимание. И когда он замер на минуту, я ему говорю: «Славик, блядь, мы ж там пакеты оставили. У нас их сейчас украдут там». И действительно он отошел немного, мы ушли. А потом дома снял кроссовки, которые мы купили, — и видим, что у них бирка не оторвана. И она пищала, а он не брал ничего. Ну и он не стал эти кроссовки носить. И куртку утопил в пруду.
Поначалу от любой неразрешимой хуйни он так реагировал. Я понимал, что он находится в агрессивной среде, которая отработала схему. А он ничего не может сделать, потому что он с одной стороны маленький, а с другой у него есть психические проблемы. Потому что тебя из дома забрали в приют, из приюта отправился в обычный детский дом, там ты не понравился, тебя отправили в коррекционный детский дом, там ты не понравился, тебя отправили в дурдом. И я думаю, надо ему как-то помочь. Галя тогда и запустила эту мысль, что его забрать бы к нам. Галина Анатольевна это воспитатель, женщина такая за сорок, очень православная.
Думаю: если его просто поместить в среду, где не будет агрессии и где на его истерики не будут отвечать, то ему станет лучше. Сейчас я понимаю, какая это была смелая и безответственная мысль. Я уже брал его на выходные, на гостевой. Я предложил это в интернате. И мне все — и воспитатели, и начальство — сказали: «У тебя не получится». Но я все равно решил взять. Из всех ребят, которые были, у него была самая большая привязанность ко мне. И этот положительный образ, который он лелеет, говорил о потребности в привязанности.


Тогда была схема, что ты просто приходишь в интернат, пишешь в книжечку: я, такой-то, взял такого-то до такого-то. Предварительно с директором согласовываешь. И директор себя прекрасно повел. Они собрали всех сотрудников — разрешать мне или не разрешать. И, конечно же, все не разрешили. А он такой: «Давайте посмотрим правде в глаза: сделать Славику хуже, чем ему сейчас есть, или сделать его хуже, чем он уже есть, невозможно. Давайте попробуем…“
Но у меня не получалось это сделать сразу, были очень удачные гастроли, снимал корпоративы, и там ломилось столько денег. Я понимал, что сейчас две недели отработаю, и мы потом сможем на эти деньги полгода жить. И я его попросил: «Слав, ты подожди, я приеду и тебя заберу. Только ты эти две недели, пожалуйста, веди себя нормально». Это, конечно, было ошибкой. Я думал, что он все понимает, а он только понимал, что я уехал. А воспитатели уже привыкли, что с ним могу справиться только я. Когда начиналось, они мне звонили: «Дим, приди!» — и Славик привык, что, если что, я приду. И тут он несколько дней подождал, стал нервничать — и начал меня вызывать. Я ему говорил: «Ты возьми мобильный и позвони мне, не обязательно это все устраивать». И прикинь, я на съемке, на каком-то мероприятии в Москве, мне звонят из интерната: «Блядь мы твоего Славика нахуй в дурдом отправляем!» Типа или вправь ему мозги, или приезжай. Я говорю: «Ну даже если я сейчас все брошу, я все равно не успею на поезд, а следующий через сутки». Ну и в общем они отправили его в больницу.
Когда я попал в интернат, я исповедовал точку зрения, что надо ко всем найти подход, и больше ничего не надо. У меня было представление такое, что надо его вытащить, и все наладится. Славику была прописана лошадиная доза колес — которые я ему не давал. И отчасти это было правильно, там был перебор. Ему такой дозняк выписали — дать тебе и еще кому-то, что ему на день давали, в десять лет, — и вы приляжете отдыхать на сутки. Но с другой стороны, прям отказаться, как я это сделал, и ебаться со всем этим, — это тоже не выход. А я — шух — и отменил все, закинул на шифонер, сам потом сожрал.
Люди, которые не занимаются психиатрией, часто начинают считать, что к психопату достаточно найти подход. А серьезному психопату реально нужны таблетки. Представь себе, что ты рождаешься — и у тебя болит голова. И наше нормальное состояние с головой, которая не болит, — оно для него неизвестно. И он, естественно, злой. Шизофреникам реально необходим хлорпромазин, чтобы тормозить процессы, которые возникают в момент обострения. Представь себе самый ужасный бэд-трип, помноженный на тысячу. И вот он сидит, он на тебя смотрит — у меня в психушке такие прям были инсайты! Представь, человек все время живет в бэд-трипе, всю жизнь. Когда все непонятно, все пугает. Я понял, что от них далеко не всегда надо ждать фидбэка, надо просто оставить в покое, успокоить.
Мне казалось, что если я сделаю так и так, то Славик должен повести себя вот так. А он чуть что уходил в эти свои состояния. Поймали — повис на проводах, пытался залезть в деревенский дом, что-то спиздить. Его притащил хозяин — не потому, что он что-то спиздил, а висел сученок на проводах, не там схватился. Но в процессе он более-менее адаптировался. У него просто не было каких-то моделей поведения, как реагировать в сложных ситуациях. Сейчас Славу довести тоже можно, но у него уже есть навык реагировать на какие-то непонятные и противоречивые ситуации.
— И чем дело кончилось?
— Через полгода я сдал его обратно в интернат. Он меня на хуй послал, а я уже очень заебался и решил, что в воспитательных целях над его сдать, — пусть почувствует разницу и сам попросится. Ну и потом я уехал, а когда приехал, выяснилось, что его взяла Галя. Я сначала очень злился, что ломают мою воспитательную тактику. Я спрашиваю: «Что ты делаешь, когда он тебя на хуй посылает?» — «Ничего…» Она просто сокрушалась. Ну и в общем, я вынужден признать, что у нее получилось лучше. В итоге Славик с ней живет, и она сделала то, о чем я фантазировал, — он изменился. Он, конечно, подворовывает, но вспышек у него вообще нет. Я Гале очень благодарен. Кажется, ни с кем у меня нет таких глубоких эмоциональных отношений, как со Славиком. И с того момента он ни разу не был в психушке.

Это штука, на которую попадаются новички-волонтеры, и я попался. Кажется, вроде, человек такой сохранный, дай ему Пауло Коэльо — и всё пойдёт. Нихуя, потому что все-таки бытие определяет сознание. Единственный случай, когда человек вырвался из этой фигни — это Вова К. Это реально случай уникальный. Парень всегда был в оппозиции, его в дурдом восемь раз клали. Вова в 12 лет мотался по четырем районам области, в радиусе двухсот километров знал у кого переночевать, к кому пойти, что сделать. Но я уже не жду, что кто-то еще это сможет. Вот Вовкин одноклассник, с которым они дружили в интернате, — его сейчас посадили. Причем он нарочно сел, потому что в ПНИ его уже не берут, а ему нужна система. Единственный вариант взрослого интерната — это тюрьма. Он мотался, скитался несколько лет, а сейчас из тюрьмы звонит довольный до усрачки. Я даже был у него. И у него мозг в этом закрытом мужском социуме работает на порядок лучше, чем у меня. Если мы сейчас туда попадем, мы скорее всего не достигнем тех высот, которых он достиг моментально. Он понимает, как это работает — и бессмысленно говорить, кто из нас умнее. Короче, ты с ними общайся, если у них есть запрос — отвечай, но не пытайся за них простроить какой-то маршрут. Единственное, что я хорошего делал — это когда не пытался кого-то воспитывать. Но с другой стороны, откуда бы взялось это понимание? Курчанова как-то цинично сказала: ну а на ком нам тренироваться?
Раньше мне было свойственно такое отношение, что есть Люди, с большой буквы, а есть — так, все остальные. А потом я стал общаться с дебильным подростком. И сначала мне казалось, что надо там и там подкрутить — и все исправится. А потом я увидел, что все гораздо сложнее, и там еще пять каких-то ручек торчит. И что его судьба — это причудливое переплетение кучи историй, обстоятельств — и интеллект его вообще не причем. Интеллект — это стекло, из-за которого эта душа как-то видна. Интеллект — это стекло — у кого-то оно мутное, у кого-то чище. А за ним, если погружаешься вглубь, — там душа, и она вообще прекрасная. И у каждого внутри такая же душа. И я стал по-другому глядеть на людей. Это было одним из самых поворотов моего мировоззрения.
Поток
Миша, которого Дима вывез из интерната, числился отсталым, но на самом деле диагноз ему, как и многим там, поставили за хулиганство. Миша был здоров, как лось, но со всем набором детдомовских приколов — скользкий, вороватый, старался всем понравиться. Помню, например, историю, как Миша с другими интернатными висели на какой-то квартире, где лежала Димина фототехника, они ее вынесли и загнали. Миша клялся, что это не он, но на перекрестном допросе выяснилось, что все он знал. В общем, на теплые отношения отца с сыном это было непохоже. Диму уже заебала глупая Мишина хитрость, а Мишу — Димины нотации. «Исполнится 18 — и пиздуй!» — в сердцах ругался Дима. Он вообще не притворялся, обычно говорил, что чувствует, а потом извинялся. В одном из файлов оказалась запись Мишиного бёздника, где пьяный Дима орет:
— Я тебе желаю главным образом быть честным с самим собой! Ты можешь наебать меня, ты много раз это фантастически продемонстрировал. Я думал, я хитрый человек, а тебя я не раскусил, но Бог с ним! Я тебя главное призываю: себя не наебывай! Когда ты один лежишь в кровати и мысли в голову лезут, ты с собой будь честным, как тебе сердце подсказывает…
— Ну все, Диман, хватит…
Из рассказов самого Миши я помню только одну деталь: когда он еще жил в деревне, до детдома, у него был друг, сильно старше его. Он строил крутые шалаши в лесу, а маленький Миша им завидовал. Потом друга призвали в Псковскую дивизию и убили в Чечне. «А я приватизировал его шалаши.»
Какая-то привязанность у них, конечно, была, но все-таки чувствовалось, что они животные разных видов. Все, что интересовало Диму, Мише было похую. В какой-то момент он пошел учиться на повара, устроился работать, мы сидели на кухне и строили планы, чтобы отправить его учиться во Францию. Был 2011 год, у всех была масса прекрасных планов. Но в итоге все получилось иначе — кажется, они опять поссорились, Миша пошел красить машины, съехал жить в мастерскую, а потом ушел в армию. Тем не менее, я надеялся, что Дима дал ему какой-то трамплин.
В другой записи Дима рассказывает про интернат. Обстановка там примерно понятна.


— Курить мы там начали с водителем вахты детдомовской, который в город отвозил-привозил, — он дул страшно. И бухали, конечно. Пойдем на кладбище с детьми, типа кладбище убирать. Отошлем детей убирать, а сами сидим с воспитательницами, бухаем. И пару раз я там в такие сопли напивался, что ребята меня относили в изолятор. И блядь, в восемь утра меня Саня будит: «Давай, сейчас уже вахта меняется»… И мне так плохо, самогон какой-то ужасный взяли. А еще тот парень, который должен был присматривать, он пошел, угнал машину и разбил ее, и там менты были, я пока спал. Я думаю: «бля-я-ядь…» Я в восемь утра из интерната такой вот иду, и всем понятно, где я был. У меня встреча с директором — обсудить перспективы поддержки интерната. А я чувствую, что не протрезвею тупо к этой встрече. И я тогда понял, что надо просто довериться этому потоку.
— А подростки тоже пили?
— Нет, подростки, конечно, не пили — если напьются, у воспитателя будут проблемы. Там была ответственная система, у нас в группе было два парня адекватные. И с ними Дима договаривался, что вот мы сейчас уйдем, а ты за старшего. И он держит в порядке, мы можем уйти бухать, возвращаемся — все дела сделаны, все стоят по стойке смирно.
— Дедовщина?
— Жесткая, самая беспощадная. Это все культивируется воспитателем, он дает сигареты старшим, кто может организовать 15 человек пиздоты. Кто сделает из них сурикатов. Они организовывают этот социум так, чтобы им легче было управлять. И тут без мазы: либо ты сам сурикат, либо ты всех строишь. Прикинь, мы ща едем в деревню с Мишей, сидим в вагоне-ресторане, выпиваем. И он встречает старшака, который демобилизовался с армии. И они сидят, разговаривают. И потом Миша говорит: это тот, который всех пиздил по-страшному, и он перед ним извинился. В армии побывал. Воспитательницы там еблись с интернатными — потому, что эти ребята физически часто очень развитые. В 15 лет уже такой конь…
— А воспитательницы молодые?
— Да нет. Я тогда это видел и понимал, что я сейчас не смогу взять и начать тут что-то менять, сеять добро. Я понял, что надо отдаться, проникнуть в это все как можно глубже, чтобы понять, из чего все происходит. И когда проснулся в изоляторе, я понимаю, что что этот поток меня унес, уже дальше некуда, уже панк просто.
— А ты на каких основаниях там был?
— Никаких оснований не было! Просто мы познакомились во время лагеря, потом лагерь закончился, все уехали, а я остался. И я знал Диму, воспитателя. И вот корпус, Дима там главный, пацаны. В четыре часа все руководство уезжает из интерната - и там могу голый на ушах стоять, и это останется тайной, никто не узнает. Ну и ребята тоже понимали, что я все вижу, но молчу — значит, мне можно доверять.
Но я же был волонтером, что-то с ребятами делал, играл в футбол. А тут они подходят, а у меня водка стоит, я им: «Давай потом»… Еще что-то: «Давай потом». И они в какой-то момент уже перестали подходить. Меня мучила совесть, и я откупался деньгами: покупал какие-то DVD, телевизоры, привозил туда.


— А начальство к тебе хорошо относилось?
— Большую часть времени там был один директор, Михалыч. И я сейчас понимаю, что он охуенный был чувак. Потому что он понимал все эти наши принципы и часто шел на конфликт с управлением — просто, чтобы не возвращать детей в интернат, поддержать нашу какую-нибудь фигню. Он часто мог на меня наругаться, сказать, что я хуйню какую-то очередную придумал бредовую. Но когда какой-то принципиальный вопрос, он всегда вставал на сторону детей и каких-то наших идей.
— А он знал, как вы там квасите?
— Догадывался.
Три раза мне давали пизды на порховской дискотеке. Последний раз я повздорил с каким-то пацаном. Обычно я толерантно отношусь к людям поглупее, даже с какой-то симпатией. А тут стал зачем-то включать интеллект, его опускать. Это их обычно очень обижает. Но я тогда ювелирно выкрутился. Он стал со мной разбираться, куда-то меня волочет. А я пьяный, весь на шарнирах — и толкнул какого-то быка, он спиной стоял. Он поворачивается: ««Чеее?!» И тут я понимаю, что их надо познакомить. Я к тому оборачиваюсь: «Ну что, довыебывался? Ну давай, вперед!» И отхожу.
Корпоративы
Зарабатывал Дима в основном тем, что снимал пьянки богачей. Он постоянно переключался между дном и сливками общества. Он всех пытался почувствовать, пытался понять свое место в этой абсурдной жизни.
— Сложность жизни в деревне — это не то, что надо в холоде вылезти из-под одеяла в штанах, выйти на кухню, включить чайник одним движением, растопить печку, обжечься о дверцу, дойти до туалета. А то, что музыка везде. Они там питают любовь к шансону. Если сильно пьяным сесть его послушать, то они в общем-то говорят о понятных вещах — о справедливости, что они хотели, как хорошо, а получилось плохо. Но когда включается просто попса, которая тремя аккордами просто зарабатывает деньги… Это тоже можно принять как явление, но это, блядь, играет постоянно, каждый день, отовсюду. Ты сядешь в маршрутку — это играет, ты пойдешь в райпо — играет. И дети, у них, знаешь, манера такая — они наушниками не пользуются, берут мобильный, врубают на всю и идут по улице. Всю дорогу звенели эти мотивы незатейливые, ту-ду-ду-тыц-тыц-тыц, это сильно меня травмировало.
И я работаю позавчера на корпоративе, был день рождения. И он такой, из разряда дорогих — это значит, что там будут три артиста. Такой средний артист, потом артист получше — и пиздатый артист. И вот сначала там Игорь Николаев играет свои эти хиты старые. Он, блядь, ужасно выглядит, у него три подбородка, такой толстый, страшный чувак. Потом выше его на ступень Ёлка, а уже кульминация — это Вера Брежнева. А ее я уже вижу раз седьмой на этих мероприятиях. У неё четко есть программа, она не меняется, я уже знаю, в какой момент куда встать, чтобы сделать красивый кадр. И она постоянно устраивает блядское шоу — выхватывает именинника из толпы, привязывает его, делает блядские движения, трется об него причинным местом, потом завязывает ему глаза — и там уже подтанцовка начинает вытворять совсем всякие глупости — ну и он думает, что это делает Вера Брежнева, а она там стоит рядом, поет.
И потом, как правило, идет какая-то кабацкая команда, которая уже просто до утра исполняет всякие хиты на заказ. А тут выходят эти люди, три мальчика, младше меня. А в зале такие люди, блядь, типа директор группы «Абсолют». Чтобы ими стать, надо все-таки обладать какими-то качествами, умом как минимум. Невозможно же просто быть бандитом. И тут они все вскакивают и начинают плясать. И я понимаю, что эти три мальчика — это они исполняют всю ту хуйню, которая долбила мне четыре года в уши изо всех ларьков. «Я устал, хочу любви, тра-ля-ля» — уй, блядь. Новую песню начинают — ой, и это тоже они… И я понимаю, что знаю все их песни наизусть, они просто из меня лезут. И это какие-то безумные черти, которые начинают падать на сцену, конвульсии изображать, залазить на колонки и оттуда прыгать. Причем они все ужасно одеты, травести просто покраснели бы, глядя на их вид. А их слушают в деревне, где кожаная куртка, адидас — и не дай бог ты выйдешь за эту рамку — по ебалу сразу. У меня просто было потрясение, я увидел своих демонов в глаза. И глаза были за такими очками, которые дайверы одевают.
Я организатору говорю: «Леш, они наркоманы что ли?» Он говорит: «Ты знаешь, у них такой график, что любой торчок сдох бы на третий день. Они все буддисты, веганы, следят за своей духовной чистотой, тра-ля-ля». Я почитал их блог, они реально из Тибета не вылезают. Адекватные, неплохие ребята. Но блядь, как? Ты же понимаешь, что ты насаждаешь это безмозглое тынц-тынц. Больше всего я его слышал в палате речевого интерната. Или я как-то зря осуждаю людей? Может быть, это какое-то их чувство искреннее?
И вот как-то совпало, что можно было детей отдать, и как раз было подряд три заказа. И заплатить должны были тысяч 60 — на эти деньги в деревне можно три месяца жить. А один из заказов — день рождения мужика, который строил подъезды ко всем олимпийским объектам. Со мной летели в самолете «Виагра», «Фабрика» и прочие наши орально-инструментальные ансамбли. А мне, конечно, после деревни это все не очень приятно, потому что они там за один вечер спускают минимум три бюджета области по социалке. Ну и я снимаю, снимаю, мне как-то трудно. И в какой-то момент думаю: выпью 50 грамм. И я подхожу к организаторам, спрашиваю: «Можно?» — «Да без проблем» — наливают мне «блю лэйбл» — дорогущий виски, там бутылка тысяч двадцать стоит — и разбавляют кока-колой. Выпил — и поехал. Потом пил, пил, оказался в каких-то сочинских кабаках, где надо было платить самому, и там уже спустил половину того, что заработал. Пил всю ночь, заснул, опоздал на самолет. И в итоге я привез в деревню всего пять тысяч. Купил на них вот эти колонки, единственное, что я привез из деревни. Потому что они мне очень дорого достались.
Еще ездил снимать детский праздник в Подмосковье. Там были звери — какие-то канадские лошадки, собаки, аллигатор, леопард. И я, конечно, понимаю, что дети могут глядеть на это другими глазами. Но мне не понравилось. Во-первых, эти канадские лошадки — она длинная, как такса, у нее такие короткие ножки, и видно, что ей трудно скакать, ей все трудно. Их вывели такими. А потом дрессировщик ее спрашивает — «да» или «нет» — и она должна кивать головой и мотать. Но я вижу, что он ей дотрагивается или до спины, или до бока. И то же самое собачки — им все время дают немножко корма, когда они правильно делают. А потом дрессировщик говорит: «Сейчас я дам ему мясо, а он не возьмет». И я вижу, что он дает не так, как обычно, а немножко закрывает ладонь. И этот пес не глядит, аж отворачивается, мне видно, как он боится. И я понимаю, сколько его лупили, чтобы он научился не брать с такой ладони. И сколько эту лошадку пиздили по спине и бокам, пока она выучила.
Аллигатор, обколотый транквилизаторами, с замотанной скотчем мордой, ползает по рукам, висит на шее. А леопард — видно, что он злой. И это же на природе — и он глядит на деревья, на лес — а дрессировщик ему сразу по морде. Он даже кинулся на дрессировщика, вцепился ему в плечо. Но на нем такая одежда специальная, кожаная — он ему сразу палкой по ебалу — раз-раз-раз…
Я тут ехал со съемки с Лешей, которые все эти корпоративы организует. Он с 96-го года этим занимается, и иногда на праздниках подсовывает этим олигархам какие-то мои просьбы. Например, директору «Абсолюта» — и тот, не глядя, подписывает: «к исполнению, подпись». Я через него для «Ростка» получил полмиллиона рублей. И вот мы едем с очередного глупого тим-билдинга. А Леша мою жизнь знает, и парень неглупый. И он говорит: «А я стараюсь идти легким путем». Я говорю: «Почему ты думаешь, что есть легкий путь?» «Есть, — говорит, — Все зависит от окружения. Какое будет у тебя окружение — такая и жизнь. Есть сферы, где люди живут легко, и ничем не заморачиваются. И я стараюсь. То есть у меня, конечно, есть сложности в семье, со Светкой, с дочерью — но в целом я стараюсь жить легко»…
И тут я впервые подумал, что действительно ведь есть такие сферы, есть люди. Я тут тоже отдыхал, вчера полдня думал, купить ли в ГУМе ботинки за тысячу рублей, которые раньше стоили 5 тысяч. Белые ботинки такие. Они очень популярны в деревне — белоснежная обувь на фоне навоза. У каждого есть такой белоснежный объебос в гардеробе — раз в год пройтись, на день города. И нет никакой потребности что-то писать, что-то снимать. Вчера сидели обедали с девочкой на работе, и она рассказывала, как она любит продажи. Рассказывала свою жизнь, что она не знала, чем заниматься, а теперь вот занимается продажами, и это так интересно, что продажи — это ее. Она убивается до вечера на работе, приходит в 11 — зато у нее нет сил скандалить дома, и ей спокойнее.
Я наблюдал за своими сверстниками, местными ребятами. Наши жизни там ничем не отличались: есть работа, есть деньги — хорошо, нет денег — плохо. Там ведь в деревне никакой особой реализации не добьешься. Но я понял, что из-за отсутствия этой творческой потребности им живется проще. Они философскими вопросами не задаются, просто получают удовольствие.
У нас психиатр очень крутой, он знал всех наших детей, и всякие мои философские идейки поддерживал. И когда я с ним общался, то просто испытывал трепет: чувствовалось, настолько у него крепкая психика, просто монолит. С ним общаешься и видишь, что все проще. Если у человека есть сверхценная идея, которая идет на уровне базовых потребностей, — это симптом шизофрении. Когда только начинаешь волонтерством заниматься — ты до всех пытаешься донести какие-то мысли, соображения, и реально уже неадекватно себя ведешь, соседу в поезде начинаешь доказывать. Я понимал, что тут шаг в право, шаг в лево — и ты уже клиент.
Вы охуели
В тот момент наша жизнь вертелась вокруг политики, митингов и автозаков, но про это я как-то не записывал. Единственное, что осталось — фотка, как мы держим картонку на приговоре «Пусси Райот». Когда объявили, что девчонкам дали страшный по тем временам срок в два года, мы стояли в онемевшей толпе. «Блядь, надо что-то сделать, иначе я сейчас напьюсь», — сказал Дима. Я нашел картонку от холодильника, мы разложили ее на земле. «Что писать?» — спросила Аня. «Вы охуели,» — сказал Дима. За словом в карман он не лез. У Димы был ужасно быстрый ум, какой-то разогнанный процессор.
— Важно внятно говорить, что ты думаешь и чувствуешь. Очень большое заблуждение думать, что это видно окружающим. Я полгода общался с ребятами из интерната в свойственной себе манере иронии и сарказма. Пока мне психиатр не сказал, что дебилы не понимают иронии, она им недоступна. И они смеются просто потому, что ловят интонацию и знают, что когда ты заткнулся, нужно рассмеяться.

Дима смуглый, и его все время принимали менты, считая узбеком.
— Заехали с Лешей Михайлюком на заправку. Пока он заправлялся, я отошел в угол этой территории, стою, курю. А я уже пьяный, мы были в Домодедове, я там нализался. Подъезжают менты. А я на их глупые вопросы так же глупо отвечаю.
— У вас есть паспорт?
— Нету.
— А где он?
— Дома лежит.
— А вы знаете, что Москва — режимный город, и выходцам из Средней Азии после одиннадцати на улице нельзя появляться?
И тут меня снесло: «Да? Режимный город? Я ничего такого не видел! Я вот ехал, видел написано «Москва — звонят колокола», а про режимный город ничего сказано не было…» А тут подходит Леша, менты другие подъехали, как-то ситуация стала улегаться. Мент объясняет Леше, почему он ко мне приебался: «А почему ваш товарищ мне та-а-ак отвечает?» И тут я говорю: «Потому что вы мне омерзительны, весь ваш образ мыслей и действий». — «Так, поехали…»
Короче, я несколько раз совершал там коммуникационный суицид. Леша пытался загладить конфликт, а я в это время его обострял. Мент же обиделся, что я сразу начал показывать, что его статус — вообще хуйня, ничего не значит. А я ему говорю, что весь мой жизненный опыт в Подмосковье подсказывает, что уважать их статус не за что, никаких хороших действий я не наблюдал, а наблюдал много всякой херни, которую все знают. «Сейчас мы поедем в наркологичку». Я говорю: «Поехали!»


В итоге Леша принес мой паспорт, как-то все разрулилось: «У вас есть еще какие-то вопросы?» Говорю: «Вы знаете, вопрос только философский, но я чувствую, что задавать вам его бесполезно»… — и тут меня Леша уволок.
Обезаруживающая честность была фирменной Диминой чертой, я бы сказал его творческим методом. Он говорил, что думал, и теми самыми словами, которыми думал, — любым встреченным людям. На самом деле в этом было большое уважение, и это подкупало любого. Он мог сказать менту, что тот ему омерзителен, — и мент начинал говорить с ним по-человечески.
«Худшее, что со мной может случиться, когда я снимаю людей, — говорил Дима, — я могу получить пизды». Мне кажется, он так круто снимал людей просто потому, что был на их стороне. Не боялся обидеть их отстраненностью, поскольку не был отстранен.
Миша
Когда Миша ушел в самостоятельное плавание, Дима переехал жить во Псков. Бессмысленная московская маета его достала. Последние десять лет его жизни я пропустил, мы виделись только три раза. Помню, я приехал на презентацию «Черновика» в Москве, где Дима был, как всегда искрометен. Потом мы пошли выпить, я спросил, как дела. «Да пиздец, Сань, не могу выбраться»… — сказал он тоскливо. Он всегда очень честно про себя говорил. Потом из соцсетей и интервью я видел, что Дима живет между срывом и ребухой. Между ними он и снял большую часть своих пронзительных работ. Как-то я спросил, по какому принципу он решает, куда ехать, мотаясь по стране.
— Наверно принцип какой-то есть, правда я его еще пока не понял, интуитивный наверно. Как взрослый и серьезный человек ты должен разделять главный принцип — меньше думать. Слава богу, что пока появляются спонтанные желания куда-то гонять кроме кабака, — отшутился Дима.
Я слышал, что в последний год Дима затеял какой-то мощный проект «Выжившие», снимает фильмы про наркоманов, которые все смотрят и обсуждают. А месяца два назад он вдруг написал, что похоронил Мишу. «Бля, в Украине убили?» — Миша служил в Псковской дивизии. «Да нет, передоз». Это было так неожиданно, я позвонил.

— Я Мишу встречаю, говорю ему: то-се, я подшился. А он говорит: «А у нас на Шелепихе героин есть». Я говорю: «Блядь, Миша, ты еще раз мне такое скажешь, я с тобой перестану общаться! Я только что тебе сказал, что бросил, а ты мне про героин, дурак что ль? Не мне это говорить, но завязывай с этой хуйней». Я ему даже реабилитацию предложил пройти. Можно было прислать бригаду, чтобы его силком в центр увезли, но зная Мишу, я не хотел. Потому что, если уж он в 6-й роте умудрился искалечить человека, попал на гауптвахту… Не хотелось своих ребят в ребухе подставлять таким пассажиром.
Ну и неделю назад мне звонят девки какие-то, которых у него сотни миллионов, и говорят, что Миша отъехал. Я приезжаю на Шелепиху, там блатхата, какие-то зеки, какие-то дети. Они ничего не говорят, но понятно, что кололись. И они не заметили, как он отъехал, все были обхуярены. Когда хоронили, я посмотрел — он хуярился прости Господи, у него колоть некуда. Не знаю, когда он начал употреблять, говорят, полгода назад…
— Блин, зачем ему это?
— Сань, Миша из тех людей, которые будут делать только то, что он хочет. На похоронах мать была и три его телки бывшие. И никто больше не пришел! Никаких друзей у него не было, он с таким сбродом якшался, с которым только колоться можно. Диагноз такой есть: склонность к асоциальному образу жизни. И я понимаю его любовь к этому пиздецу, мне тоже все это нравится. Мы снимали недавно фильм на притоне, и там появился героин. И меня аж затрясло, настолько захотелось — на этом, сука, грязном матрасе, с этими ублюдками, обхуячиться героином. Я бросил свою камеру, сел рядом и начал колоться. Но, блядь, я никогда не уходил в это с головой, я мог зайти по пояс. А он ушел туда, потому что больше ничего не было. Даже многочисленные телки никак не держали. И он помер — никто даже не приехал!


Я чувствовал, что Дима сам потрясен банальностью этой смерти. И наверняка думал, помог ли он Мише тем, что появился в его жизни. Непонятно, взял ли Миша от него что-то хорошее, а вот это перенял. Если бы я лучше подумал, надо было сказать: «Да конечно, взял, Дим. Изменить ничью судьбу нельзя, но думаю, годы с тобой были для него счастливей, чем другие…» Но я не сообразил.
— Я же тоже, как война началась, начал колоться. Я так кололся, Сань, что… у меня уже на тумбочке были отложены 200 тысяч на похороны, даны всем инструкции, что делать с фотографиями, с телом и так далее. На притонах, с этим сбродом. Я кололся с чуваком, который считается самым конченым наркоманом во Пскове. Надо мной живет мент, он меня с ним увидел, говорит: «Дим, ты знаешь, что это за человек? Он с тебя мертвого кроссовки снимет». А Леха, на самом деле, после четвертой ходки, начал по совести жить. И он меня один раз сам откачал, два раза вызывал скорую. Ну а потом я понял, что надо как-то жить…
Мне кажется, что Дима всегда жил на плоскости, где не за что держаться. Каждый раз, чтобы снова начать жить, он придумывал новый проект, рассказывающий, как человек борется с невозможностью существования. Любой человек в любом городе.
Дима умер от передоза 15 февраля, на пике творчества и волонтерской работы, не закончив книжку прозы, которую писал весь последний год.

Текст подготовлен при участии Одиссея Буртина, Олеси Меркуловой, Артема Чернова. Фотографии Дмитрия Маркова из его аккаунта в Фейсбуке и инстаграм-аккаунта.


