«Все отупели»
Русское общество подошло к Крымской войне в состоянии, которое внешне выглядело как патриотический угар. Газеты и журналы были полны уверенностью в предопределенном Богом исключительном величии России и ее миссии. В салонах люди с восторгом пересказывали легенду, как Николай I ответил кому-то из чиновников, испугавшихся, что в войну вступят Англия и Франция: «Под покровительством русского Бога никакие враги не страшны России».
Однако в реальности ситуация была не такой однозначной. К началу Крымской войны оба противоборствующих идейных лагеря — западники и славянофилы — находились в одинаковом отчуждении от военно-бюрократического режима Николая I. Это отчуждение усилилось после 1848 года, когда из-за страха перед прокатившейся по Европе революционной волной в России резко ужесточились требования цензуры и политические репрессии.
«Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и все отупели», — так характеризовал последние годы правления Николая в одном из своих писем Федор Тютчев — консерватор, вовсе не склонный к либеральному вольнодумству.
«Поражение России сноснее для нее»
В 1853 году начало боевых действий против Турции вызвало в русском обществе воодушевление и надежды. Освобождение славянских народов от власти Турции, уничтожение Османской империи и захват Константинополя, — будоражили национальные фантазии, а результат военного столкновения с Турцией до вмешательства в конфликт европейских держав казался русской публике очевидным.
Однако уже в первые месяцы войны и у западников, и у славянофилов возникли многочисленные поводы для упреков в адрес властей. Славянофилы жаждали «народного» характера войны и винили «онемеченное» правительство в игнорировании подлинного исторического смысла происходящего. Позже, когда вместо очевидной победы Россия столкнулась с необходимостью противостоять коалиции Англии и Франции и вести боевые действия на своей территории, именно славянофилы оказались во главе «партии войны», желавшей непримиримо биться до победного конца чего бы это ни стоило. И теперь были недовольны тем, что властная бюрократия далеко не всегда разделяет их воинственный энтузиазм.

Западники с самого начала с глубокой иронией относились к мысли, что Россия действительно собирается освобождать славян от турецкого ига. А когда Россия столкнулась с перспективой воевать в одиночку против Англии и Франции, не имея ни единого союзника в Европе, они расценили эту ситуацию как бездарность внешней политики, основанной на чрезвычайной и неоправданной самоуверенности.
К началу Крымской войны уже появилась вполне влиятельная российская политическая эмиграция — в первую очередь в лице Александра Герцена. Осмыслять события Крымской войны Герцен должен был как житель Лондона, где в 1853 году начала работать основанная им «Вольная русская типография». Герцен переживал различные этапы отношения к войне. В первые годы войны он с воодушевлением злорадствовал и торжествовал поражениям России. В одном из писем в июне 1854 года он написал: «Для меня, как для русского, дела идут очень хорошо, и я уже [предвижу] падение этого зверя Николая. Если возьмут Крым, ему придет конец. Я со своей типографией перееду в английский город Одессу […] Это великолепно». Впрочем, постепенно он отошел от этих восторженных построений и занял куда более взвешенную позицию. В том числе реагируя на события обороны Севастополя, которая пробудила всеобщее сочувствие в России.
Русское общество чувствовало отделенность от власти, независимо от исповедуемых взглядов. И это привело к тому, что война стала восприниматься как испытание не вообще для страны, а отдельно для властного режима. Поэтому и военные неудачи также стали восприниматься как доказательство негодности государственного механизма.
Более того, развитие николаевского режима в том же военно-бюрократическом направлении воспринималась многими как бо́льшая угроза и бо́льший национальный позор, чем военное поражение. Эти страхи точно описал философ Владимир Соловьев: «Когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, […] мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой, мы были убеждены […], что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет».
Славянофил Александр Кошелев, несмотря на общий воинственный настрой своего идейного лагеря уверял, правда, уже в мемуарах: «Высадка союзников в Крыму в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде».
«Я всегда думал, что император переживет и нас, и детей наших, и чуть не внуков»
В феврале 1855 года, когда война была еще в разгаре, в Петербурге неожиданно и скоропостижно умер император Николай I.
«Я всегда думал, да и не я один, что император Николай переживет и нас, и детей наших, и чуть не внуков. Но вот его убила эта несчастная война. Начиная ее, он не предвидел, что она превратится в такое бремя, которого не вынесут ни нравственные, ни физические силы его», — записал в феврале в своем дневнике цензор Александр Никитенко. Впрочем, в той же записи он продолжил мысль: «Император умер, да здравствует император! Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца».
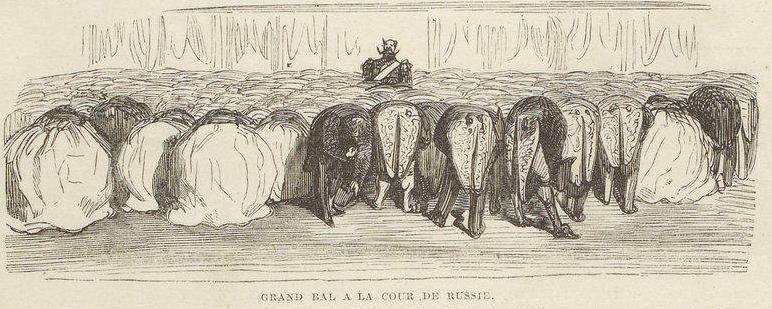
Появление на престоле молодого наследника, императора Александра II, дало надежду, что все начинается с чистого лица. А когда стало понятно, что новый император не вполне разделяет взгляды своего отца, оказалось возможным гораздо смелее говорить о «гнили» и «казарменном духе» прежних десятилетий, на которые возлагалась вина за постигшие Россию неудачи.
Тем более, что среди всех неудач и «гнили» общество нашло отдельный повод для национальной гордости — героическую оборону Севастополя. Либерал и западник Борис Чичерин в статье, которая вышла заграницей в герценском сборнике «Голоса из России» в 1855 году так сформулировал этот пафос : «Один был город на краю государства, где сосредоточился весь героизм русского народа и который своей мужественной защитой искупил бездействия тяжкого времени».
Изолированный героизм
В 1856 году Россия подписала Парижский мир, по которому лишилась права иметь военный флот на Черном море и уступила Бесарабию. К тому времени в общественном сознании уже присутствовали идейные «заготовки», которые позволили сформировать особое отношение к неудачной войне, а в каком-то смысле — и к войнам вообще.
Во время обороны Севастополя в литературных журналах стали появляться записки участников боевых действий о примечательных случаях или героических поступках. В ряду таких сочинений настоящую сенсацию произвели «Севастопольские рассказы» Льва Толстого — также участвовавшего в обороне города как офицер-артиллерист. Художественная хроника Толстого стала каноническим описанием Севастопольской обороны и во многом повлияла на восприятие войны в русском обществе.
Оптика писателя показывала войну, как сумму самых обычных ежедневных действий множества людей, из которых и складываются подвиги и героизм. Толстой считал, что война идет «сама собою», а поведение солдат и матросов не сильно зависит от целей и мудрых приказов высокого командования. Толстовская «правда войны» помогла перестать воспринимать войну как героическое целое. Нижние чины могли совершать ежедневные подвиги, давать примеры мужества и стойкости — и это было отдельным сюжетом, никак не связанным с бездарностью высшего руководства страной страной и «гнилью» режима.
В итоге сложился принципиально новый общественный консенсус отношения к войне: в поражении виноват тридцатилетний режим Николая I, но это никак не отменяет героизма людей на фронте, которых вовлекли в военную авантюру. Героизм вызывает законную гордость, а режим требует критики и реформирования.
«Накласть в загорбок любезному Отечеству»
Для объяснения неудач войны стали приводить примеры злоупотреблений чиновников и связанных с ними коррупционными нитями предпринимателей. В 1858 году в «Военном сборнике» появилась статья штабного офицера Владимира Обручева (в дальнейшем один из разработчиков военной реформы Александра II) «Изнанка Крымской войны». Статья разоблачала работу интендантских служб, погрязших в коррупции, и стала одной из самых обсуждаемых сенсаций.
В рассказе Николая Лескова «Бесстыдник» главный герой, участник боев в Крыму, говорит о статье Обручева: «Она в свое время большого шума наделала, и все мы ее тогда только что поначитались и были ею сильно взволнованы. Оно и понятно! Книга трактовала о злоупотреблениях, бывших причиною большинства наших недавних страданий, которые у всех участвовавших в севастопольской обороне тогда были в самой свежей памяти: все шевелило самые живые раны».

Но апофеозом этого рассказа становиться речь взяточника из интендантского ведомства. В ответ на рассуждения о подлецах, из-за которых русские герои сражались зря, он обвиняет «севастопольца» в клевете на русский народ и произносит блистательную тираду: «Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось — везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать — так умирать, а красть — так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде — вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны».
Лесков с присущей ему иронией и безжалостным пониманием «русской жизни» показывает тот прагматично-циничный взгляд на войну, когда все ее участники как будто бы мазаны одним миром. Если кто-то умирает не понятно за что, почему другому не красть, если такая возможность предоставляется. Все во славу Отечества.
Описание коррупционных комбинаций, связанных с заказами на военные нужды, оставил и Михаил Салтыков-Щедрин. В годы Крымской войны он служил губернским чиновником в Вятке, а после — в министерстве внутренних дел занимался инспекцией потраченных средств на организацию ополчения. Набор в ополчение в 1854 и 1855 годах был полудобровольной мобилизацией. Государство решило наскоро собрать массу добровольцев из разных сословий, и после минимального обучения отправить их в Крым.
В рассказе «Тяжелый год» Салтыков-Щедрин максимально ядовито описал борьбу чиновников за открывшийся вместе с набором ополчения поток казенных денег.
«Вдруг неслыханнейшая оргия взволновала наш скромный город. Словно молния, блеснула всем в глаза истина: требуется до двадцати тысяч ратников! Сколько тут сукна, холста, кожевенного товара, полушубков, обозных лошадей, провианта, приварочных денег! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать в самый короткий срок! И вот весь мало-мальски смышленый люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству».

Щедрин не упускает из виду и общего оживления экономики, связанного с войной: «Наш тихий, всегда скупой на деньгу город вдруг словно ошалел. Деньги полились рекой: базары оживились, торговля закипела». В «Тяжелом годе» вообще описаны очень знакомые нам сейчас картины: «Дамы щиплют корпию и танцуют. Мужчины взывают о победе и одолении, душат шампанское и устроивают в честь ополчения пикники […]. Откупщик жертвует чарку за чаркой. Бородатые ратники, в собственных рваных полушубках, в ожидании новых казенных, толпами ходят по улицам и поют песни».
О другой стороне бессмысленной и позорной затеи с ополчением Щедрин упоминает в романе «Господа Головлевы», где в ратники поступает беспутный пьяница Степан Головлев, который позже вспоминает об ополченском походе как о сумбурном пьяном приключении. Впрочем, и в «Тяжелом годе» он также пишет о людях поступивших в ополчение: «Все, что было в присутственных местах пьяненького, неспособного, ленивого, — все потянулось в ополчение и переименовывалось в соответствующий военный чин […] И шли эти люди, в чаянье на ратницкий счет […] не ведая, куда они путь-дороженьку держат и какой такой Севастополь на свете состоит […] И большая часть их впоследствии воротилась домой из-под Нижнего, воротилась спившаяся с круга, без гроша денег, в затасканных до дыр ополченках».
Мир важнее войны
Проигранная война позволила русскому обществу увидеть внутреннюю механику войны и теперь с иронией относиться к патриотическим чувствам бюрократии. И вообще увидеть, что несмотря на образцы героизма сама война может быть делом жестоким, нечистоплотным, вбирающим в себя ту самую «гниль» николаевского режима.
Новый взгляд позволил стране войти в эпоху великих реформ. Отмена крепостного права, введение суда присяжных, местного земского управления, значительные перемены в университетах, ослабление цензуры, — все это создало совершенно иное настроение эпохи и другое взаимоотношение власти и общества, которое активно и с энтузиазмом включилось в начавшиеся перемены.
На какое-то время война и милитаристское самоутверждение государства стали совсем маргинальной темой, не актуальной даже для патриотов-государственников.


