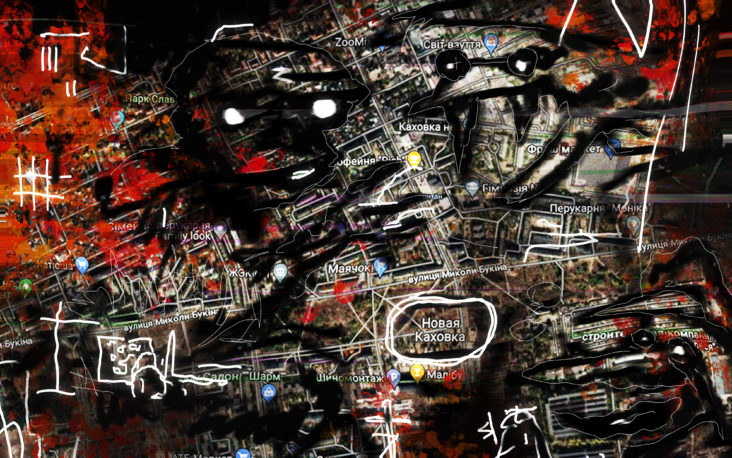Вы находитесь в Украине все время, пока идет полномасштабное российское вторжение. Как изменились вы за это время, и как изменилась Украина?
Не все время, все-таки я приехала сюда 7 марта [2022 года] — а первые две недели вторжения были одними из самых тяжелых. Когда я приехала, в Киеве уже начался просвет. Хотя еще никто не знал ни про Бучу, ни про Гостомель, ни про Ирпень — они были в оккупации.
Я не вижу, чтобы Украина сильно изменилась. Для меня Украина — это гражданское общество, потому что ни с каким другим обществом, например, с госорганами, я не общаюсь. А гражданское общество здесь как было сильным, так и остается. И я думаю, что на него очень сильно оглядываются в украинской власти. Это разительно отличается от того, в чем я прожила практически всю свою жизнь.
Что касается меня самой, то я стала ненавидеть Россию. Просто ненавидеть. 23 февраля прошлого года я написала пост в Фейсбуке, который начинался словами: «Сейчас, когда мы стоим на пороге большой войны…», а заканчивался тем, что нужно обязательно любить Россию. Потому что иначе останется замученное пространство с пошлостью, подлостью, тупым народом. Вот эта любовь у меня ушла. И даже кажется странным, что я тогда это написала.
Многие россияне вас не поймут.
Не поймут, потому что я живу внутри войны, а многие люди, даже самые распрекрасные из моих друзей, живут вне войны. И мы по-разному ощущаем эту войну. Я ощущаю, что я полностью в крови, мое тело как будто обуглилось, и я корчусь от боли. Но с вами это не может произойти, потому что вы не находитесь внутри Украины и не испытываете это на себе. Война во мне в этом смысле очень многое разделила. Война все делит на черное и белое.
Я не стала русофобом, быть каким-то «фобом» вообще не очень полезно. Но я ненавижу Россию за все, что она сделала и с чужим народом, и со своим. Моя страна сейчас — Коза ностра планетарного масштаба. И рассказывать, что «это — страна, а это — государство», «это — вина, а это — ответственность» — чушь собачья, демагогия.
У вашей ненависти была конкретная точка отсчета?
Я думаю, что Буча сыграла очень большую роль. Потому что я была в Буче на эксгумации: видела все своими глазами, нюхала своим носом и заливала это все своими слезами. И в тот момент для меня умерло главное, что составляло мою любовь к России — это русская культура. Она не помогла и не спасла. Наоборот, теперь я вижу, что все это — очень тонкий слой прекрасного масла, который лежит на куче дерьма, и дерьмо это масло использует, когда ему нужно и как ему нужно.
Мне достаточно истории одной женщины, которая потеряла ребенка и осталась без ног. Я говорю про конкретную женщину, я ее знаю — ее зовут Кристина, она из Мариуполя. 16 марта [2022 года] она пыталась оттуда выехать. В машину попала мина: ее шестилетняя дочка погибла на месте, ей самой оторвало ноги, а ее мужу — руку. Истекающих кровью Кристину с мужем отвезли в местную больницу, где не было никаких лекарств. А мертвая девочка десять дней сидела в машине, пока родственники смогли ее похоронить, и проходившие мимо люди видели, как чернеет ее лицо, а ветер по-прежнему играет ее волосиками. Мне этого хватает.

Мне хватает чудесной украинской земли — этого щедрого, масляного чернозема, который стоит пустой, потому что идет война, и на нем некому работать. Это я к тому, что одного Освенцима хватает для осуждения нацизма и действий Германии в то время. Необязательно к нему прибавлять Маутхаузен, Равенсбрюк, Берген-Бельзен, чтобы возненавидеть нацизм до конца своих дней.
Сейчас я вижу, что поток журналистов в Украину уменьшился. Я не знаю, ушла ли Украина с первых полос западных газет, но интерес к ней уже не такой, каким был в начале вторжения. Возможно потому, что сейчас война стала поспокойнее. Но вот я говорю «поспокойнее» и тут же вспоминаю Днепр, Черкассы, Краматорск. Несколько дней может быть «поспокойней», а потом опять происходит что-нибудь — и куча убитых и раненых.
А ведь это была абсолютно мирная земля. Украина за 30 лет своей независимости никогда ни с кем не воевала. Это страна, которая хотела жить мирно. Нет ничего страшнее, разрушительнее, отвратительнее и безобразнее войны.
Есть ли снимок, который вы считаете самым важным?
Я почти не бываю на фронте, на передовой. У меня практически нет военных снимков. Я снимаю то, что происходит с «обычными» людьми, например, после очередного налета. И у меня есть очень хорошие снимки «мирной» Украины, ведь люди не могут все время сидеть в бомбоубежищах. В какой-то момент ты выходишь, идешь в свой сад-огород, сажаешь цветы, сидишь с друзьями — это часть жизни при войне. И это тоже сопротивление войне, потому что враги, конечно, хотят, чтобы мы все пали духом.
Поэтому для меня самые важные фотографии совершенно не самые лучшие или популярные. Сейчас для меня самые важные фотографии — это снимки семьи ОгуликВиктория Ивлева объявила сбор денег для жительницы поселка Давидов Брод Светланы Огулик и ее троих сыновей, которые остались без дома и без вещей первой необходимости после того, как их дом был разрушен российской ракетой. из Херсонской области. Люди собрали им больше 100 тысяч гривен, для них это огромные деньги. И это еще не все, потому что куча народу собирается прислать им посылки, в том числе из-за границы. Вот это получается самое важное.
Вообще, мне сложно оценивать свои картинки. Иногда тебе кажется, что ты сделал что-то гениальное, а иногда — что ты просто идиот и бездарность. Фотография не должна всегда оцениваться по важности события, с моей точки зрения, журналистская фотография — это тоже искусство. Так же, как искусство — хорошо писать журналистские тексты. Многие журналисты забывают, что нужно не только факты набрать, но и хорошо их описать.
Вы, кстати, редкий фотокорреспондент, который свои снимки сопровождает текстом, как вы к этому пришли?
Скажу честно: я офигительно ленивый человек, и все время прокрастинирую. Это только кажется, что я изображаю бурную деятельность. Я всех обманываю. На самом деле, я работаю мало, редко, долго пишу свои тексты. Обсасываю их со всех сторон: могу одну фразу обдумывать 15 минут: «который пошел» или «пошел который»? И соединяются ли эти слова? Часто вслух по 10 раз прочитаю, как это звучит. Я никуда не тороплюсь — надо мной нет вредного редактора, я свободный человек.
Мне хотелось бы верить, что мои тексты вместе с фотографиями остаются в памяти. Но мне самой кажется, что мои тексты лучше картинок. И меня это не очень радует, потому что я все-таки начинала как фотограф, и мне казалось, что это самое главное.
А как вы начали писать?
Я тогда работала в «Новой газете», из которой меня благополучно выгнали за профнепригодность. Это было в 2003 или 2004 году. Это не Дмитрий Андреевич [Муратов] выгнал, для этого у Дмитрия Андреевича есть специально обученный человек — начальник отдела кадров. Я тогда действительно запорола какие-то съемки, что у всех бывает — это не повод для увольнения. Но эта женщина меня вызвала и сказала: месяц дорабатываешь и досвидос.
А «Новая газета» — это такая как бы секта, ты в нее вступаешь и умираешь от любви. «Новая» как мачеха, которая разрешает себя любить, а ты понимаешь, что ты недостойный. Для меня было страшной трагедией, что я не буду больше там работать. И надо сказать, что часть людей в редакции ходила к Муратову и просила за меня, что-то объясняла.


В один прекрасный день была очередная годовщина Чернобыля и редакция на летучке обсуждала, что делать с этой темой. И мой товарищ, фоторедактор Артем Геодакян сказал: «Так вот же, Ивлева была в реактореВ 1992 году Виктория Ивлева получила премию World Press Photo за репортаж изнутри Чернобыльского реактора.». И Муратов сказал: «Ой, пусть она напишет что-то». И я от ужаса, что меня выгоняют, села и написала текст. И потом Дмитрий Андреевич бегал по коридору и кричал: «Это гениально!» А он это редко делал. Он обычно про гениальность говорил наедине, а если нужно было наорать — при всех.
Этот текст напечатали, я втянулась и стала так делать постоянно. В «Новой» у меня выходило много текстов и фотографий. Мне сложно сказать, что было лучше, но с тех пор они сосуществуют вместе. И я страшно за это благодарна газете, потому что была в исключительном положении — коллеги меня поймут — меня почти никогда не правили и никогда не резали мои картинки.
У вас есть табу в профессии? Наверняка же бывают ситуации, когда хочется сделать выигрышный, «хайповый» кадр, но при этом возникает моральная дилемма.
Может я нескромно скажу, но, наверное, моя личность выше моих талантов. Знаете, бывает талант больше человека, а бывает человек больше таланта. Я думаю, что моя личность больше, чем мои фотографии или мои тексты. Но это будут оценивать уже после моей смерти.
Весной этого года я была в Славянске на похоронах14 апреля российская армия обстреляла Славянск ракетами С-300. Погибли 15 человек, в том числе - Сергей Комаристый и его двухлетний сын Максим. 30-летнего парня и его двухлетнего сына, которых убила российская ракета. Я немного общалась с оставшейся в живых мамой и женой — молодой 30-летней девочкой Настей. И может благодаря этому я была единственным фотографом внутри церкви.
Насте было плохо, я не знаю, как описать ее состояние. Стоят два гроба: один большой и один маленький. В маленьком лежит твой ребенок, который несколько дней назад бегал и был счастлив. А в большом — любимый муж. Причем, трагедия произошла фактически на ее глазах: она была в доме напротив, в спортклубе. Она услышала адский грохот, выбежала на улицу и увидела, что вместо ее квартиры — небо. Голову подняла и все — перестала жить той жизнью, которой жила.
Меня, конечно, просто подмывало поднять камеру и сделать снимки в церкви, потому что внутри все равно фотограф сидит — другое дело, как ты своим внутренним фотографом руководишь. В какой-то момент я себе сказала: «Ты вообще кто сначала: журналист или человек?» И ответила себе: «Сначала человек». На этом все закончилось. Я не сделала ни одного снимка, но абсолютно об этом не жалею. Наоборот, считаю, что это была победа духа.
Иногда ты просто чувствуешь, что не нужно снимать. Не потому что боишься агрессии, тем более, что я женщина, и в отношении меня она проявляется меньше. Просто что-то внутри тебя командует: это делай, а это не делай.
Встречались ли вам в Украине люди, которые принципиально отказывались фотографироваться или давать интервью?
Я же не мастер интервью, я просто разговариваю. Я никогда не приезжаю и не начинаю сразу «поливать». Тем более, у меня пленочная камера, которая предполагает более медленный темп работы. Он более человечный, потому что скорость, с которой сейчас движется человечество в целом, немного не соответствует внутренней скорости человека. Поэтому я всегда сначала разговариваю, мне интересно. И никогда не считаю, что я лучше, чем все эти люди, что я великий мастер или великий фотограф. Я считаю, что абсолютно им всем равна, а они равны мне.
В принципе я могу быть наглой бабенкой. В том, как надо куда-то влезть без мыла, я всегда была большой мастерицей. Но здесь, в Украине, я так не делаю. Я не буду пытаться «обходить сзади», чтобы куда-то попасть или пройти — мне совестно. Не потому, что мне могут сказать: «Нельзя. Ты вообще откуда? Ах, ты оттуда! Вот сиди и не питюкай!» На самом деле, мне никогда в жизни здесь ничего такого не говорили, хотя мой русский акцент люди слышат сразу. Просто это мое внутреннее чувство. Поэтому я лишний раз никуда не лезу.

При этом я чувствую себя в достаточной степени уверенно, поэтому меня можно проверять на любом детекторе лжи 10 тысяч раз. Я живу в унисон с украинским обществом, может, поэтому мне моя жизнь здесь очень нравится. Я очень мало жила в унисон с российским обществом — только с каким-то его маленьким кусочком, а все остальное было враждебно, и этим раздражало.
Украина — страна, в которой мне хорошо и свободно жить, хотя это очень сложное состояние. Потому что физически я понимаю, что моя жизнь может закончиться в любой момент от выпущенного российского снаряда. И это гораздо большая вероятность, чем кирпич, который может упасть мне на голову.
А что помогает пропускать через себя такое огромное количество человеческого горя?
Мое волонтерство. То есть эмпатия, сострадание. Мне кажется, если бы я была абсолютно отстраненным, холодным ходячим циркулем, то рано или поздно сломалась бы. А волонтерство поддерживает. Потому что главное в жизни — увеличивать количество добра.
Но это же огромная нагрузка: вы только за время нашего интервью три-четыре раза отвлеклись на разговоры, связанные с гуманитарной помощью.
Фарида, вот что вы все не понимаете! Так живет вся Украина, во всяком случае, живая часть Украины. И в этом смысле я абсолютно ничем не отличаюсь от других. Единственное мое отличие — я могу об этом пост написать, и его прочитает большое количество людей. Все в Украине на что-то собирают деньги, все в чем-то участвуют. Если ты не собираешь деньги или у тебя нет денег, ты идешь плести маскировочные сетки или мыть полы в госпиталь. Это нормальная украинская жизнь.
Думаю, это связано с тем, что молодая независимая Украина была слабым государством, что вполне естественно. Людям во власти было мало дела до народа, и народ оставили в покое. И оказалось, что это главное — оставить народ в покое, чего в России никогда не делали. И народ в Украине стал как-то сам собой заниматься, налаживать связи. Я это называю «замечательной украинской горизонтальной коррупцией».
И за 30 лет люди привыкли, что если в одном месте страны ты говоришь, что у тебя потерялась собака, то в другой части тебе ее находят и привозят — это нормально, это неравнодушие, без которого просто не выжить. А в России народ всегда были палкой по голове, угрожали и запугивали. И получили, что хотели.
Когда я еще жила в России, была история со взятыми в плен25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма обстреляли и захватили украинские артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Плавсредства ВМС Украины направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту находилось 24 украинских военнослужащих, минимум трое получили ранения. Москва обвинила украинских моряков в «незаконном пересечении границы» и поместила под стражу. Украина настаивала, что столкновение произошло в нейтральных водах, и считала захваченных моряков военнопленными. 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми гражданами в формате 35 на 35. В числе тех, кто вернулся в Украину – все 24 моряка. украинскими моряками. В сентябре 2019 года их поменяли вместе с Олегом Сенцовым. До этого девять месяцев они сидели в [СИЗО] Лефортово, и все это время я и мои друзья их кормили. Их было 24 человека: на каждого выходило 30 килограммов продуктов в месяц. Мы делили это пополам и два раза в месяц возили в СИЗО по 15 килограммов на каждого.

Эти килограммы фасовались по особой науке — что можно, а что нельзя, потому что в каждом СИЗО свои правила. Все делалось у меня дома, и работа шла абсолютно как часы. Одни люди покупали продукты, другие фасовали, третьи привозили все это в Лефортово, четвертые сдавали — это было самое тяжелое. Что-то у нас не брали, мы скандалили и даже что-то высканадалили. Например, после нас стали принимать вареные овощи в вакуумной упаковке, и это была большая победа над тупостью приемщиков.
Эта была фантастическая акция, которая ни разу не дала ни одного сбоя. Времена тогда еще были вполне себе ничего, сесть особо не за что было. Но никому это не было интересно. Никто про это не написал ни одного слова. Меня это так поразило как журналиста. Не потому, что этим занималась я сама, а потому, что невероятное дело было сделано. Я тогда поняла, что люди в России в основном не интересуются Украиной, только какой-то маленький круг.
А много ли народу выходило на всякие митинги и протесты? Сколько нас ходило в постоянные пикеты к администрации президента по поводу войны с Украиной и обмена пленными? Ну человек десять-пятнадцать. Это было безопасно, никто из нас никак не пострадал, может один штраф был за это время.
Я всегда так жила. Мне кажется, что журналист должен быть не только любопытен, он еще и не имеет права быть равнодушным. Иначе это выглядит как доведенный до абсурда рассказ про нейтральность. Ты не можешь быть нейтральным, если ты не машина. Я не имею в виду людей, которые делают исключительно новости и сообщают, что «под мостом поймали Гитлера с хвостом», а в основном сейчас все занимаются новостями. Но для журналиста, который занимается не только новостями, ничего интереснее жизни людей быть не может.
И я всегда на стороне того, кто стоит в слабой позиции. Я говорю про данный момент — через пять минут этот же самый человек может выхватить ятаган и оказаться в сильной позиции. Но как я могу оставаться равнодушной, если кому-то сейчас плохо? Вот уверяю вас, если когда-нибудь Владимира Путина выставят в клетке на Красной площади, как Пугачева, я бы ему посочувствовала, ведь он будет в слабой позиции.
Я уверена, что многие украинцы вас не поймут.
Возможно, мне так кажется. Возможно, я стояла бы вместе со всеми и радовалась. Но я в этом сильно сомневаюсь. Потому что клетка унижает любого человека, и, как только человек оказывается в условиях несвободы, когда он не может принести зло другим людям, что-то в тебе поворачивается. Но я надеюсь, что Путин будет не в клетке на Красной площади, а в Гааге.
Один из ваших репортажей посвящен российским военным, которые находятся в украинском плену. Судя по их репликам, они так ничего и не поняли об этой войне. С какими чувствами вы делали этот материал?
Люди, которых я видела в украинском плену — это те, кого Сурков называл «глубинным народом». Они обладают фантастической приспосабливаемостью к ситуации, мимикрируют под нее, но найти выход из нее не в состоянии. В Украине такие тоже встречаются. Более того, я думаю, что основные жертвы войны из гражданских — именно эта категория. Потому что те, у кого были мозги и воля, так или иначе уехали туда, где безопаснее, даже при полном отсутствии денег. Конечно, есть крайние случаи: невозможность выезда по семейным обстоятельствам или полная идеологическая поддержка России, что уж греха таить.
С точки зрения государства, заставлять воевать глубинный народ очень удобно, потому что он будет приспосабливаться и делать то, что ему скажут. С точки зрения человеческой — это очень нехорошо, потому что это люди, которые не в состоянии принять никакого решения. Это люди, о которых раньше мы, журналисты, никогда особо не думали. Мы никогда с ними не разговаривали, они ничем особо не интересны, даже спичечных коробков не собирают. Но они среди нас, их огромное количество, они живут рядом. И сейчас они попали в самую страшную мясорубку.
Но ведь эти люди — и есть Россия. Получается, ее будущее такое же темное и мрачное?
Если только она не развалится на меньшего размера страны — тогда есть надежда на что-то другое. Поэтому я и хочу, чтобы она развалилась. Чаадаев же говорил, что «иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать». Должно быть такое место на земле, которое показывало бы: сюда не ходи, туда ходи. Может быть, это и есть судьба России? Поэтому я себе представляю какую-нибудь условную Петербургскую республику, чтобы это была страна не безумных, а разумных размеров.
Все, что когда-то составляло славу России, — «три года скачи и никуда не доскачешь» — сейчас превратилось в вериги, в тяжесть, которая тянет в прошлое, в архаику. Эти размеры и расстояния у тебя нет желания и возможностей освоить и поднять на должный уровень. Хотя в каких-то аспектах Россия абсолютно развитая страна.
У вас есть ответ, почему Россия развязывает агрессивные войны?
Имперство — его я ставлю на первое место. Рассказы про великих русских, про подвиги. И когда нам говорили раньше про войну 1941-45 годов на территории СССР, было ощущение, что это война как в 1812 году, когда все ходили в красивых белых лосинах, а это же было не так, естественно. Часть героев была придумана, часть была настоящей, но нам никогда не рассказывали про тяжесть жизни народа в тылу. Про то, что 14-летний мальчик Вася, который пошел делать патроны и мины, потом один в каморке пьет кипяток, потому что даже чая у него нет. И что у Васи рахит, диатез и цинга.
Вообще, очень мало правды о той войне. Есть книги Василя Быкова, Виктора Астафьева или воспоминания сотрудника Эрмитажа Николая Никулина, который прошел всю войну. А что еще? Даже если взять всем знакомые «А зори здесь тихие» — это во многом сказка. Так что первая причина — это имперство, а вторая — ощущение войны не как блевотины и ужаса, а как необыкновенного праздника, на котором каждый должен с радостью умереть за Родину. Думаю, что государство сознательно и последовательно делало так, чтобы война в России стала религией. Вот она и стала.
Какую из виденных вами войн напоминает война в Украине?
Это все повторяет Чечню — все об этом говорят. Я сама там не была, у меня как раз в те годы дети родились. Конечно вы можете сказать: «Не была, а чего говоришь?» Но все-таки про Чечню достаточно много известно: про преступления российской армии, про ее отношение к мирному населению. Это была «репетиция» Украины. Чеченский опыт использовали люди, которые напились крови, им понравился ее вкус и запах. И они жаждали новой, только они здесь прокололись: никто не ожидал, что у военкоматов в Украине уже в пять утра 24 февраля будут стоять очереди.

Для меня эта война стоит особняком, потому что это самая близкая война, прошедшая через меня. На остальных войнах не было такого размаха, а если и было что-то приближающееся, типа Сирии, это все-таки было от меня далеко. Я не переживала за Сирию так, как переживаю за Украину. Я не умею переживать за все человечество. Вот я своих детей всегда будут любить больше, чем чужих, мне кажется, это нормально. Поэтому то, что происходит с Украиной, я даже не могу вам объяснить, какая это степень боли для меня.
В таком случае не могу не спросить про ваших сыновей, которые эвакуируют гражданских из зоны боевых действий. Видно, как вы ими гордитесь, но вы же понимаете, что они рискуют жизнью?
Я все время только об этом и думаю. Но это их выбор, их никто не заставлял, они взрослые люди — старшему 30 лет будет в этом году. Не знаю, что буду говорить, если с ними не дай бог что-то произойдет, не хочу об этом даже думать. Я думаю, во мне тоже много есть замороженного. Конечно, я боюсь, и это нормально — бояться.
Как думаете, ваш личный опыт повлиял на их выбор?
Да они все время меня видели в разных «странных» делах: то я вожусь с мальчиком из детского дома, то собираю какую-то гуманитарку, то уезжаю в командировку на войну, то помогаю беженцам, то у нас в доме появляется мальчик из Уганды — бывший солдат из адской «Армии Сопротивления Господней», который очень хотел учиться в школе, а потом стать врачом… Сейчас он кардиолог с дипломом РУДН. Дети мои в этом жили и видели мое неравнодушие и, видимо, поняли, что так жить гораздо интересней. А еще, мне кажется, они понимают, что нужно стоять за справедливость. И для меня их сегодняшний абсолютно гуманитарный выбор естественен.
Потом, знаете, когда спасаешь человека, а я считаю, что вывоз человека из-под обстрелов — это его спасение, потому что тот, кто там находится, может в любую секунду исчезнуть с лица земли, — это такое необыкновенное чувство. Не в смысле того, что ты Бога победил, но это чувство бесконечного счастья и радости. Ты понимаешь, что это хорошо, и тебе от этого хорошо.
Сейчас мои сыновья почти перестали читать, как и я — я безобразно мало читаю, позорище. А в детстве они оба прилично читали, и наверное что-то осталось у них в головах. Та же «Муму» там остается навсегда.
Почему Герасим утопил Муму?
Потому что он был раб. Именно поэтому это великий рассказ, потому что он про русских и про Россию. Потому что рабство было важнее любви, хотя ничего важнее любви на свете нет. Важнее любви и свободы.
Поражение в войне может дать шанс России измениться?
Думаю, что нет. Хотя я сейчас это говорю, а сама вспоминаю Ханну Арендт, которая говорила, что человека очень легко гнуть как в сторону зла, так и в сторону добра. Когда-то людям говорили, что очень удобно ходить на четвереньках и жить в клетках, вот они и жили. А потом, в перестройку, им вдруг сказали: «А попробуйте встать». Они стали вставать — что-то неудобно показалось. А еще через пару лет: «Как хорошо, когда стоишь-то, и небо видно!» Потому что это естественно. Естественно жить не в рабстве, а в свободе.
Но видите, не пришелся ко двору Михал Сергеич [Горбачев]. Я не обожествляю его, он был живой человек со своими недостатками, но он столько сделал, что многие вещи ему можно простить. И вообще, каждого политического деятеля нужно рассматривать в том времени, в котором он жил, потому что то, что мы понимаем сейчас, было непонятно тогда. А вот то, что человек он был живой и не злой — очень важно.

В 1987 году, перед премьерой «Покаяния» в Москве, я была в Тбилиси и встречалась с [его создателем] Тенгизом Евгеньевичем Абуладзе. Благодаря ему я и попала на премьеру в Доме кино, потому что попасть туда было просто невозможно — люди на люстрах висели. Так получилось что летели мы с ним в Москву вместе, и я тогда спросила его: «А каким должен быть правитель?» Я думала, он мне ответит: «Мудрым, справедливым…» Но он мне ответил очень странно: «Правитель должен быть добрым».
Я иногда вспоминала его слова и не могла понять. И только с приходом Владимира Владимировича я поняла, что Тенгиз Евгеньевич был абсолютно прав. Но Путин, увы, попал в матрицу русского народа — народ, как мы теперь понимаем, хотел именно такого правителя: жестокого, мстительного, лживого тирана. Они нашли друг друга и вместе пошли убивать Украину. И хотелось бы только, чтобы весь мир понял, что спасти Украину — это спасти себя, потому что это не война между Россией и Украиной, это война цивилизаций.
И все же в России остаются люди, которые не поддерживают войну и Путина, но справедливо боятся выйти на протест. Что им сейчас делать?
Я тоже считаю, что сейчас выход на улицы невозможен, он бессмысленен. У нас есть печальный пример Беларуси, где вышло гораздо больше народу, чем в России, и все равно это было подавлено. Сейчас такая стадия фашизации и насколько сильная репрессивная машина, что это не работает. Но всегда остается возможность помогать тем, кто в беде.
Помогать украинским беженцам, помогать политзекам — это пока еще не возбраняется. Тогда ты вовлечен в помощь и живешь немного по-другому. Не так: «Ой, я ничего сделать не могу и поэтому сижу тихо». А так: «Я ничего сделать не могу, но я могу шевелить мизинцем, значит, я буду им шевелить». Я думаю, что если бы Украина меня не пустила, я бы вернулась в Россию. Там и сейчас есть чем заниматься. И до своего последнего вздоха буду делать что-то, чтобы показывать, что я — против.